Крымский сад метаморфоз
Крымский сад метаморфоз
Раздел прозы и литературной критики
ПРОЗА
Содержание выпуска
Содержание выпуска
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Содержание выпуска
Содержание выпуска
Акитон
Отрывок из романа-фантасмагории
Давно она здесь не была…
Акитон стояла в центре поляны, заворожённо озираясь, и не узнавала это место. Крепко натянутых между деревьями канатов – нотных линеек, как они с братьями Ладовыми называли их в детстве, не было.
Осталась лужайка, окружённая могучими стволами деревьев, сквозь ветви которых проникали и тянулись, переливаясь, золотистые солнечные лучи. Яркие цветы выглядывали из травы и покачивались от лёгких дуновений ветерка. Душа Акитон наполнялась светлой грустью, и она думала: «Как жаль, что игра в Нотный стан осталась в прошлом!»
Внезапно приняв всем своим существом эту данность, она прошептала:
– Детство кончилось.
Отрывок из романа-фантасмагории
Давно она здесь не была…
Акитон стояла в центре поляны, заворожённо озираясь, и не узнавала это место. Крепко натянутых между деревьями канатов – нотных линеек, как они с братьями Ладовыми называли их в детстве, не было.
Осталась лужайка, окружённая могучими стволами деревьев, сквозь ветви которых проникали и тянулись, переливаясь, золотистые солнечные лучи. Яркие цветы выглядывали из травы и покачивались от лёгких дуновений ветерка. Душа Акитон наполнялась светлой грустью, и она думала: «Как жаль, что игра в Нотный стан осталась в прошлом!»
Внезапно приняв всем своим существом эту данность, она прошептала:
– Детство кончилось.
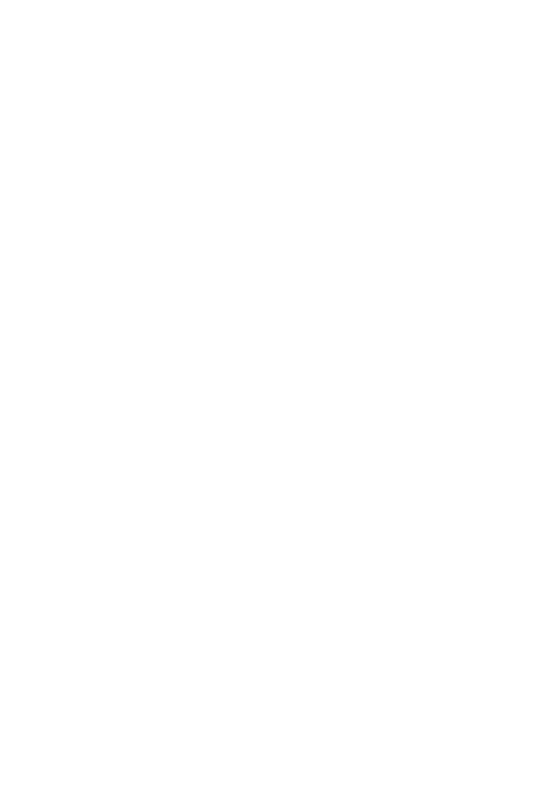
Людмила Ульянова
Писатель, композитор, член Союза российских писателей, г. Ялта
читать полностью...
И ей захотелось вновь скакать с братьями по натянутым канатам и парить в голубом небе вместе с птицами. Может, потому что «детство никуда не уходит», как любит говорить её бабушка, и это вовсе не Поляна Страха, а Поляна Беззаботности, чистоты детских душ – её, Вани, Феди?
Она не видела их, кажется, целую вечность. Как они встретятся после долгого перерыва? Какими покажутся друг другу? Какие у братьев сейчас отношения? Раньше они были друг для друга словно резонаторы, и «поклёвывали» один другого постоянно. А теперь?
Удивляясь собственным мыслям, ощущениям, отзвукам детства, которые ожили на этой фантастической Поляне, Акитон возвращалась к дому бабушки, и первым, кого она встретила, и с кем её связывали нерасторжимо тесные узы детства, был старший из братьев. Она вздрогнула от неожиданности, замерла на месте, когда поняла, что симпатичный спортивный парень, сидящий на заборе, и есть он, Фёдор.
Права была бабушка Аллегра – Федя сильно изменился. Ему было уже семнадцать лет, но так же, как в детстве, он сидел с видом независимого моряка и беззаботно насвистывал что-то из отцовского репертуара.
«Отрабатываю художественный свист», – такой обычно была реплика Феди на замечания бабушки, когда они были поменьше возрастом и свистуном он был неважным.
Сейчас же Федя, глядя на проходящую мимо него разодетую Лялю, замолчал. И она, вызывающе вглядываясь в его лицо, произнесла:
– Правильно. Не свисти, Федя, а то у тебя денег не будет.
– Ляля, счастье моряка не в них, он идёт, куда труба зовёт, – отпарировал он. – Ты разве не в курсе?
– Иное богатство, Федя, сейчас мало кого интересует. Девушки из приличных семей замуж за тебя точно не пойдут, – жеманно улыбаясь, ответила Ляля, шагом танцующей индюшки двигаясь дальше.
Надевая босоножки, которые держала до этого в руке, Акитон не заметила, что Федя уже смотрит не на Лялю, а на неё и, не узнавая подругу без очков, думает при этом: «Сразу видно, что творческая натура. Наверняка живёт в таком же нереальном мире, как мои брат и отец. Не про меня».
Акитон поймала мысли юноши – временами этот удивительный дар давал ей чувство защищённости. Подумала: «Про тебя, Федя!» – и, подойдя к забору, смело выдохнула:
– Привет!
– Привет! – быстро бросил он в ответ и тут же запнулся, встретившись с Акитон глазами. «Неужели бывшая толстушка стала такой стройной симпатичной девушкой?»
– Не узнал, – зачем-то солгал, растерянно опуская глаза.
И Акитон, глядя на его смущённое лицо в веснушках, рассмеялась.
Фёдор тоже улыбнулся и кивнул утвердительно – всё равно она может слышать его мысли, так чего уж тут стараться что-то утаить от неё? Ощутил в теле пульсирующую энергию и попытался спрыгнуть с забора, но, зацепившись рубашкой за штакетину, беспомощно повис прямо перед лицом смеющейся Акитон.
– Это просто трюк, я специально на этом «Нотном Стане» завис, – Федя попытался напомнить об игре, которую когда-то для них с Ваней Акитон придумала. И ей стало приятно, что он об этом вспомнил.
Внезапно голосисто заиграла мелодия её телефона, и, улыбаясь, но не Феде, а тому, кто ей звонил, Акитон с особенным теплом произнесла:
– Салют, рада тебя слышать.
– Муси-пуси, сю-му-сю, – Федя помрачнел, оттого что она так вдруг томно замяукала, как это обычно делала заносчивая Ляля.
Фальшивые интонации Фёдор с детства терпеть не мог. Он резко дёрнулся и соскочил на землю, оказавшись близко от лица Акитон.
– Я и правда здесь, как приятно, что ты это почувствовал, – говорила она, отводя глаза в сторону, и Федя поневоле начал додумывать, какой ловелас вдруг «почувствовал», что она приехала. «Может, Аркашка на свои аппетитные домашние пироги зазывает, чтобы его мамочка заценила, с какой интеллигентной девочкой он дружбу водит? Да нет, Ляля бы тогда по этому поводу что-то обязательно вставила, а она на Акитон даже не посмотрела».
– Понятно. Нет, не скажу. Спасибо, с удовольствием, сейчас же и приду, – с загадочной улыбкой девушка заканчивала разговор.
Выключив телефон, Акитон и не подумала рассказать Фёдору, с кем она так мило общалась.
– Ты изменилась, – заметил Фёдор с деланным безразличием.
– Раньше боялась выглядеть смешной, а теперь нет?
– Теперь ты другая, – сказал Федя глядя в сторону.
Он развернулся, прощально махнул рукой и неестественно бодро произнёс:
– Извини, я спешу, увидимся!
Но, уходя, всё же обернулся и спросил, будто невзначай:
– Ты надолго приехала?
– Не знаю, может, до конца лета.
– Отлично! – сказал Федя и тут же «отлично» споткнулся.
Шёл в непонятном для себя направлении и не мог уяснить, отчего его кидает из стороны в сторону. – «Это же не шторм, капитан, чего ты дёргаешься, будто тебя в пучину уносит? Акитон ведь не из мрачной глубины – она чистая, как море ранним утром…»
Шаг в неизведанное…
Позавтракав, Акитон тут же направилась в дом композитора Петра Ладова. Её пригласил Ваня – это он ей звонил во время их встречи с Федей, но попросил брату об этом не сообщать.
Калитка была открыта. Акитон вошла, обводя глазами прежде ухоженный, а теперь запущенный сад перед домом, поднялась по лестнице на второй этаж, как объяснил по телефону Ваня, и беззвучно приоткрыла дверь.
В полутьме музыкальной студии смуглое лицо мальчишки было строгим и сосредоточенным. Но как только Акитон окликнула его, он спустил наушники себе на шею и его длиннющие руки радостно взмыли вверх: «С приездом, Аки!»
Они обнялись и даже расцеловались. «Какой Иван стал высоченный!» – подумала Акитон и начала осматриваться. Долго увлечённо всё оглядывала.
– Сколько прибамбасов! – наконец воскликнула она. – Почему я никогда раньше не бывала в студии твоего отца?
– Ты же нас забыла совсем, долго не приезжала… – с укором сказал Ваня, примостив свои ноги рядом с клавиатурой. – Я за это время много чего додумал и модернизировал, пока отец этим не пользуется.
– Ты здесь днями и ночами просиживаешь? – спросила она, подойдя к огромным динамикам и по инерции смахивая с них пыль.
– Создаю нечто грандиозное! – с гордостью ответил ей Ваня. – Я не аранжировки песен имею в виду, ими я в свободное от этой работы время балуюсь, кое-что серьёзнее. Там и аппаратура нужна не будет, хотя она у нас что надо.
– Придумываешь очередную видеоигру? – предположила Акитон.
– Не совсем. Мне тут заказ поступил на создание Планеты… – начал было Ваня.
– …Музыки? – посмеиваясь, продолжила за него Акитон.
– Ты же в курсе... Создам – и миллионером стану.
И развязным движением, кого-то копируя, Ваня вытянул из огромного накладного кармана широких штанов, доставшихся от старшего брата, пачку сигарет, выудил из неё одну и суетливо прикурил, выпуская дым, – откровенно рассчитывал произвести впечатление на Акитон. Но она и этого не оценила. Заинтересованно махнула головой опять в сторону аппаратуры, которая явно занимала её больше.
– Ты и так миллионер – ты умный мальчик, – сделала Акитон комплимент Ивану, но он почему-то обиделся.
– Я не мальчик, ростом выше тебя, между прочим, – приподнялся он, надевая наушники на Акитон и усаживая её вместо себя в кресло. – Лучше послушай, какой я забойный ритм придумал.
Вначале Акитон слушала, качая головой и слегка размахивая руками. Но ритм был настолько заводной, что она не выдержала и начала импровизировать голосом. Так увлеклась собственным пением, что не заметила, как дверь студии распахнулась, и стремительно вошедший в комнату Федя уверенно хлопнул Ваню по спине.
– Не майся дурью! – выдернул он сигарету изо рта брата.
– Ты чего? Сам тоже ведь курил, а я просто балуюсь! – возмутился Ваня.
– Таким же малолетним дураком, как и ты, был, – затушив сигарету, недовольно сказал Федя. – А вот откуда у тебя модное курево взялось?
– Мне подарили. Есть человек, который считает меня взрослым, – хвастливо ответил Ваня.
– Опять тебя кто-то поманил, Ваня, – мне хоть из дома не уезжай. Скажи «этому человеку», что увижу в твоих руках ещё раз эту гадость – узнаю, кто он, – и пусть потом не обижается…
После смерти мамы Федя начал чувствовать ответственность за брата.
– Я-то скажу, но только тебе с ним никогда не справиться! – огрызнулся Ваня. – Если бы ты узнал его имя, то руками бы так не размахи… – едва начал он, как тут же дёрнулся, будто его ударил кто-то невидимый.
– Ты чего дёргаешься?
– Потому что ты на него нападаешь, – вместо Вани ответила Акитон.
Она уже повернулась к братьям и подумала: «Всё по-прежнему. Борьба на ринге продолжается», – а вслух добавила:
– Твой младший брат, между прочим, придумал Планету Музыки. Помнишь?
Федя оглянулся на Акитон удивлённо: «И ты здесь?», но кивнул утвердительно и едко произнёс:
– Конечно, помню, как Ванька с Нотного Стана грохнулся.
И обращаясь к брату, спросил:
– Это у тебя после того «замечательного» удара мысли о музыкальных планетах появились? Хвались, что изобрёл.
– Совершенно новый мир. Никто и никогда такого ещё не придумывал, – ответил Ваня и оглянулся на тёмный угол.
Акитон тоже опасливо туда посмотрела.
– Хотите, мы туда с вами прямо сейчас отправимся?
– Куда, в угол? Предлагаешь вернуться в наше безоблачное детство! – не преминул хохотнуть Фёдор. Но, заметив, как на смуглом Ванином лице засверкали глаза их матери, нахмурился и спросил: – Акитон, ты готова лететь непонятно куда вслед за Ваней и его мечтами?
Братья дружно повернули головы: одна с каштановыми волосами, какие были у их мамы, другая, светловолосая, – копия белокурого отца. И на девушку уставились две пары блестящих глаз – карих и синих. Акитон даже растерялась. Взгляды были одинаково открытые.
– Готова, – отозвалась она всерьёз, но тихо.
– К полёту на Планету Музыки девочка по имени Акитон готова! – подытожил Федя и задрожал от смеха, который означал, что какой-то там непонятный «полёт» просто не может состояться прямо сейчас.
Ваня был не менее упорным – он встал рядом с огромным экраном компьютера, будто актёр на сцене театра, и ликующе спросил:
– Тогда что, прыгаем?
– Куда прыгаем? Прямо в комп ныряем, что ли? – снова поддел брата Федя.
– Компьютер нам не нужен, потому что мы не ныряем, не улетаем, а исчезаем из реального мира, понял? – огрызнулся Ваня.
Хотя Феде было ясно, что брат преувеличивает свои возможности, но говорил Ваня настолько убедительно, что Акитон и вправду, кажется, начинала ему верить.
– Как это… исчезаем? – от растерянности рот Акитон так и остался открытым.
– А вот так это: куда бы мы сейчас не собирались – девчонкам там делать нечего. Да, Ваня? – ультимативно изрёк Федя. – Если мы надолго исчезнем или задержимся, то ты, Аки, нашему отцу сообщишь, куда мы подевались. Пока ведь неизвестно – работает ли выдуманная его душою тонкою игра или не работает, – опять веселясь, кивнул он на брата, и Ваня даже в лице изменился.
– Не беспокойся, работает, – сказал он обиженно. – И это не игра, а нервная система мироздания. К тому же у Акитон отличное знание музыки. Ей, как некоторым, бояться на этой планете нечего!
– «Нервная система мироздания», притяжение разных там атомов, в твоём глупом возрасте, братик, бывают довольно опасны – на занятиях по физподготовке я это неплохо усвоил. Подрастёшь – вот тогда, может, и о химии разных там чувств поговорим, – продолжал подшучивать Федя, и Ваня вздрогнул, будто он об этом думал, и его застигли на этих глупых мыслях.
– Может, и правда, оставайся? Мало ли, вдруг с тобой какой… – на всякий случай решил предупредить он Акитон.
Она стояла, переводя свой взгляд с одного на другого.
– Лечу. Точка. Мне тоже хочется открыть для себя новые звучания! – сказала она, будто это не подлежало обсуждению.
– Напрасно ты, Аки, «летишь», – недовольно пожал плечами Федя и отошёл в сторону.
– Единственное, о чём волнуюсь, – начала шептать Акитон стоящему рядом с ней Ване, – бабушка меня станет искать. Она вам, кстати, что-то там передала, – кивнула Акитон на тяжёлый рюкзак, который, войдя в студию, поставила на стул, а сейчас зачем-то снова начала с трудом забрасывать за спину.
Это говорило о том, что на самом деле Акитон особо не отдавала отчёта своим действиям. Её просто несло и всё.
– Не волнуйся! – успокоил её Ваня, и тоже шёпотом. – Бабушка Аллегра не успеет даже глазом моргнуть: на Планете Музыки проходит год, когда на земле пролетает мгновение.
– Э-э… хватит шептаться, нас здесь трое! И лично я к полёту всегда готов, – сказал Федя обиженно. – Иван, ворота межзвёздного портала открыты? Какими необычайными приключениями ты нас там побалуешь? Ну-ка, колись.
– Это не игра в межзвёздные войны, и мы не космонавты. А шутники вообще могут в другие «моря» улететь, – хмуро ответил Ваня.
И, замедляя не только темп речи, но даже свои движения, уверенно добавил:
– Лучше представьте себе пространство, в котором вы разрешите своему воображению настроиться на психоинформационные волны моего воображения.
Акитон, изумлённо глядя на Ваню, чувствовала, что мысленно действительно притягивается и соединяется с ним взглядом.
И Федя, который хотел поддеть младшего брата и «приколоться»: «психо… инфо… что-что-что?», почему-то не стал ничего говорить. Наоборот, уставился на Ваню излишне внимательно, будто его яркие голубые глаза заманили в западню, – так он «въехал» в него своим взглядом. И Ваня, удовлетворённо щёлкнул пальцами:
– Есть!
Складывалось ощущение, что он смотрел на них троих, включая и себя, но при этом глаза его были совсем не глазами, а становились высокоразвитым интеллектуальным порталом, и сам он замер и застыл, словно изваяние.
– Мы, – шевелил одними губами Ваня, – начинаем отправляться на Планету. Откройтесь ей, позвольте ей быть и будьте там, где живут Ноты, Интервалы, Аккорды… Музыкальная сущность, воплощаемая в нашем мире звуками, здесь существует полноценно, материально в формах жизни, сознания и плоти.
Такими же неподвижными становились все мускулы Феди и Акитон, их глаза перестали моргать, и картинка действительности медленно растворялась во множестве мелькающих цветов и оттенков, а все предметы невидимо и причудливо сгорали изнутри, как фотография, которую бросили в огонь.
Это было непостижимо! Это было поистине мучительное потрясение!
Но постепенно оцепенение начало спадать.
– Где мы? – шёпотом спросил, оглядываясь, Федя, – что мы… обретаем… космос? Офигеть, Ванька!
– Такой интеграции не было ни разу, это ты, Акитон, дала силу моей Вселенной!
Акитон, закусив губу, не обращала внимания на слова братьев, и была полностью поглощена фосфорическим и пока абсолютно неизвестным ей миром, который ещё не был отчётливо виден, но внутри она уже явственно ощущала его.
Кровь приливала к их головам и клокотала там от напряжения. Было странно не чувствовать под ногами тёплую родную землю. Вокруг только безжизненный мрак, который стал медленно наполняться жизнью, – и его прорезало сияние, звучавшее переливами несбыточной мечты.
– Ура! Смотрите, Планеты Музыкальной Системы! Цвета всех существующих на сегодня Тональностей! Сбылось! – закричал Иван.
Огромные круги, сложенные из космических струн и ступеней многомерного мира, выстроились в звукоряд и зазвучали ему в ответ триумфальными, но приятными раскатами.
От неожиданности и восторга Федя сделал сальто в воздухе.
Настроение Акитон тоже резко изменилось.
Звучание, сотканное из биений, дрожаний и трепетных пульсаций воображаемого Музыкального Космоса, захватывало. Вместе с ним нарождался колышущийся, будто вздымающаяся марина, и многообразный до противоречивости, бесконечный океан цвета.
Среди этой вселенской палитры один за другим загорались и выделялись круги – один живописнее другого. Их будто чертила рука небесного художника, творящего эту фантасмагорию вместе с бесплотным музыкантом, исполняющим космические гаммы на неведомом землянам инструменте.
И у каждого – Акитон, Феди, Вани – был свой цвет, свой «круг», своя тональность, своя Планета Музыки. И неизвестно, отчего каждый из троицы мгновенно определился, зная, куда именно ему надо следовать.
Федя, как всегда, первым выбрал своё направление. Он опрометью устремился в круг дрожащего от радости, романтически беспечного пурпура, соприкоснулся с ним, и тот рванул таким аккордом молодости и страсти багряного, что вместе со вспышкой произошла внезапная смена тональности, и парня подбросило ввысь, резко, как на батуте. От радостного вопля Феди решительно воспылал красный, за ним взбесился оранжевый, раскачивая взмывшее тело, как бельё на верёвке в ветреную погоду. И Фёдор, пока у него не иссякли последние силы, постарался поскорее оттолкнуться от оранжевой стихии и рухнул – провалился на самое «дно» синего моря цвета. Наслаждаясь этим «морским купанием», он плыл по течению, подхлёстываемый цветными волнами. До того самого момента, пока не увидел Акитон.
Блики золота на её длинных волосах его ослепили. Тёплый круг жёлтого ласкал, манил, притягивал, и Федя не выдержал – полетел в ту сторону, где в ясном пространстве солнечного утра мягко двигалось полное грации тело девушки. Вдвоём с Акитон они устремились туда, где на них хлынула масса зелёного цвета, воздух стал девственно чистым и прозрачным, они касались ступнями колышущейся от нежных дуновений ветерка травы на лужайке у дома, который только что покинули, и ощущали, что под ногами нет никакой опоры.
Её не было и у Вани, который, в отличие от Феди и Акитон, растворялся в вибрирующем мертвенном пятне фиолетового круга, покалывающем его худенькое тело мерцающими иголками, и становился частицей этого скорбного организма, утягивающего и засасывающего. И ему, вдохновившему всех на этот мысленный полёт, вдруг показалось, что он скоро сгинет в этом печальном круге, закручивающем его тело мощной струёй в воронку. И такая горечь появилась во рту, и так захотелось вернуться домой!
Хорошо, что из этого печального состояния его вывел голос Феди.
– Что, брат, плачешь? Да я сам готов разрыдаться – не ожидал такого безбрежного простора увидеть! Обалденно… намного круче, чем в музее космического цифрового искусства, намного… – с неподдельным восторгом признался он, приблизившись к брату.
И следом за ним с райской улыбкой подлетела и Акитон.
– Давайте возьмёмся за руки, чтобы быть на одной Планете! Очень хочется, чтобы мы вместе услышали, как звучит счастье! – взмолилась она.
И через минуту, чувствуя себя совершенно свободными, три фигуры с распростёртыми руками парили в разливающемся звуками нежности поразительно голубом сиянии.
Она не видела их, кажется, целую вечность. Как они встретятся после долгого перерыва? Какими покажутся друг другу? Какие у братьев сейчас отношения? Раньше они были друг для друга словно резонаторы, и «поклёвывали» один другого постоянно. А теперь?
Удивляясь собственным мыслям, ощущениям, отзвукам детства, которые ожили на этой фантастической Поляне, Акитон возвращалась к дому бабушки, и первым, кого она встретила, и с кем её связывали нерасторжимо тесные узы детства, был старший из братьев. Она вздрогнула от неожиданности, замерла на месте, когда поняла, что симпатичный спортивный парень, сидящий на заборе, и есть он, Фёдор.
Права была бабушка Аллегра – Федя сильно изменился. Ему было уже семнадцать лет, но так же, как в детстве, он сидел с видом независимого моряка и беззаботно насвистывал что-то из отцовского репертуара.
«Отрабатываю художественный свист», – такой обычно была реплика Феди на замечания бабушки, когда они были поменьше возрастом и свистуном он был неважным.
Сейчас же Федя, глядя на проходящую мимо него разодетую Лялю, замолчал. И она, вызывающе вглядываясь в его лицо, произнесла:
– Правильно. Не свисти, Федя, а то у тебя денег не будет.
– Ляля, счастье моряка не в них, он идёт, куда труба зовёт, – отпарировал он. – Ты разве не в курсе?
– Иное богатство, Федя, сейчас мало кого интересует. Девушки из приличных семей замуж за тебя точно не пойдут, – жеманно улыбаясь, ответила Ляля, шагом танцующей индюшки двигаясь дальше.
Надевая босоножки, которые держала до этого в руке, Акитон не заметила, что Федя уже смотрит не на Лялю, а на неё и, не узнавая подругу без очков, думает при этом: «Сразу видно, что творческая натура. Наверняка живёт в таком же нереальном мире, как мои брат и отец. Не про меня».
Акитон поймала мысли юноши – временами этот удивительный дар давал ей чувство защищённости. Подумала: «Про тебя, Федя!» – и, подойдя к забору, смело выдохнула:
– Привет!
– Привет! – быстро бросил он в ответ и тут же запнулся, встретившись с Акитон глазами. «Неужели бывшая толстушка стала такой стройной симпатичной девушкой?»
– Не узнал, – зачем-то солгал, растерянно опуская глаза.
И Акитон, глядя на его смущённое лицо в веснушках, рассмеялась.
Фёдор тоже улыбнулся и кивнул утвердительно – всё равно она может слышать его мысли, так чего уж тут стараться что-то утаить от неё? Ощутил в теле пульсирующую энергию и попытался спрыгнуть с забора, но, зацепившись рубашкой за штакетину, беспомощно повис прямо перед лицом смеющейся Акитон.
– Это просто трюк, я специально на этом «Нотном Стане» завис, – Федя попытался напомнить об игре, которую когда-то для них с Ваней Акитон придумала. И ей стало приятно, что он об этом вспомнил.
Внезапно голосисто заиграла мелодия её телефона, и, улыбаясь, но не Феде, а тому, кто ей звонил, Акитон с особенным теплом произнесла:
– Салют, рада тебя слышать.
– Муси-пуси, сю-му-сю, – Федя помрачнел, оттого что она так вдруг томно замяукала, как это обычно делала заносчивая Ляля.
Фальшивые интонации Фёдор с детства терпеть не мог. Он резко дёрнулся и соскочил на землю, оказавшись близко от лица Акитон.
– Я и правда здесь, как приятно, что ты это почувствовал, – говорила она, отводя глаза в сторону, и Федя поневоле начал додумывать, какой ловелас вдруг «почувствовал», что она приехала. «Может, Аркашка на свои аппетитные домашние пироги зазывает, чтобы его мамочка заценила, с какой интеллигентной девочкой он дружбу водит? Да нет, Ляля бы тогда по этому поводу что-то обязательно вставила, а она на Акитон даже не посмотрела».
– Понятно. Нет, не скажу. Спасибо, с удовольствием, сейчас же и приду, – с загадочной улыбкой девушка заканчивала разговор.
Выключив телефон, Акитон и не подумала рассказать Фёдору, с кем она так мило общалась.
– Ты изменилась, – заметил Фёдор с деланным безразличием.
– Раньше боялась выглядеть смешной, а теперь нет?
– Теперь ты другая, – сказал Федя глядя в сторону.
Он развернулся, прощально махнул рукой и неестественно бодро произнёс:
– Извини, я спешу, увидимся!
Но, уходя, всё же обернулся и спросил, будто невзначай:
– Ты надолго приехала?
– Не знаю, может, до конца лета.
– Отлично! – сказал Федя и тут же «отлично» споткнулся.
Шёл в непонятном для себя направлении и не мог уяснить, отчего его кидает из стороны в сторону. – «Это же не шторм, капитан, чего ты дёргаешься, будто тебя в пучину уносит? Акитон ведь не из мрачной глубины – она чистая, как море ранним утром…»
Шаг в неизведанное…
Позавтракав, Акитон тут же направилась в дом композитора Петра Ладова. Её пригласил Ваня – это он ей звонил во время их встречи с Федей, но попросил брату об этом не сообщать.
Калитка была открыта. Акитон вошла, обводя глазами прежде ухоженный, а теперь запущенный сад перед домом, поднялась по лестнице на второй этаж, как объяснил по телефону Ваня, и беззвучно приоткрыла дверь.
В полутьме музыкальной студии смуглое лицо мальчишки было строгим и сосредоточенным. Но как только Акитон окликнула его, он спустил наушники себе на шею и его длиннющие руки радостно взмыли вверх: «С приездом, Аки!»
Они обнялись и даже расцеловались. «Какой Иван стал высоченный!» – подумала Акитон и начала осматриваться. Долго увлечённо всё оглядывала.
– Сколько прибамбасов! – наконец воскликнула она. – Почему я никогда раньше не бывала в студии твоего отца?
– Ты же нас забыла совсем, долго не приезжала… – с укором сказал Ваня, примостив свои ноги рядом с клавиатурой. – Я за это время много чего додумал и модернизировал, пока отец этим не пользуется.
– Ты здесь днями и ночами просиживаешь? – спросила она, подойдя к огромным динамикам и по инерции смахивая с них пыль.
– Создаю нечто грандиозное! – с гордостью ответил ей Ваня. – Я не аранжировки песен имею в виду, ими я в свободное от этой работы время балуюсь, кое-что серьёзнее. Там и аппаратура нужна не будет, хотя она у нас что надо.
– Придумываешь очередную видеоигру? – предположила Акитон.
– Не совсем. Мне тут заказ поступил на создание Планеты… – начал было Ваня.
– …Музыки? – посмеиваясь, продолжила за него Акитон.
– Ты же в курсе... Создам – и миллионером стану.
И развязным движением, кого-то копируя, Ваня вытянул из огромного накладного кармана широких штанов, доставшихся от старшего брата, пачку сигарет, выудил из неё одну и суетливо прикурил, выпуская дым, – откровенно рассчитывал произвести впечатление на Акитон. Но она и этого не оценила. Заинтересованно махнула головой опять в сторону аппаратуры, которая явно занимала её больше.
– Ты и так миллионер – ты умный мальчик, – сделала Акитон комплимент Ивану, но он почему-то обиделся.
– Я не мальчик, ростом выше тебя, между прочим, – приподнялся он, надевая наушники на Акитон и усаживая её вместо себя в кресло. – Лучше послушай, какой я забойный ритм придумал.
Вначале Акитон слушала, качая головой и слегка размахивая руками. Но ритм был настолько заводной, что она не выдержала и начала импровизировать голосом. Так увлеклась собственным пением, что не заметила, как дверь студии распахнулась, и стремительно вошедший в комнату Федя уверенно хлопнул Ваню по спине.
– Не майся дурью! – выдернул он сигарету изо рта брата.
– Ты чего? Сам тоже ведь курил, а я просто балуюсь! – возмутился Ваня.
– Таким же малолетним дураком, как и ты, был, – затушив сигарету, недовольно сказал Федя. – А вот откуда у тебя модное курево взялось?
– Мне подарили. Есть человек, который считает меня взрослым, – хвастливо ответил Ваня.
– Опять тебя кто-то поманил, Ваня, – мне хоть из дома не уезжай. Скажи «этому человеку», что увижу в твоих руках ещё раз эту гадость – узнаю, кто он, – и пусть потом не обижается…
После смерти мамы Федя начал чувствовать ответственность за брата.
– Я-то скажу, но только тебе с ним никогда не справиться! – огрызнулся Ваня. – Если бы ты узнал его имя, то руками бы так не размахи… – едва начал он, как тут же дёрнулся, будто его ударил кто-то невидимый.
– Ты чего дёргаешься?
– Потому что ты на него нападаешь, – вместо Вани ответила Акитон.
Она уже повернулась к братьям и подумала: «Всё по-прежнему. Борьба на ринге продолжается», – а вслух добавила:
– Твой младший брат, между прочим, придумал Планету Музыки. Помнишь?
Федя оглянулся на Акитон удивлённо: «И ты здесь?», но кивнул утвердительно и едко произнёс:
– Конечно, помню, как Ванька с Нотного Стана грохнулся.
И обращаясь к брату, спросил:
– Это у тебя после того «замечательного» удара мысли о музыкальных планетах появились? Хвались, что изобрёл.
– Совершенно новый мир. Никто и никогда такого ещё не придумывал, – ответил Ваня и оглянулся на тёмный угол.
Акитон тоже опасливо туда посмотрела.
– Хотите, мы туда с вами прямо сейчас отправимся?
– Куда, в угол? Предлагаешь вернуться в наше безоблачное детство! – не преминул хохотнуть Фёдор. Но, заметив, как на смуглом Ванином лице засверкали глаза их матери, нахмурился и спросил: – Акитон, ты готова лететь непонятно куда вслед за Ваней и его мечтами?
Братья дружно повернули головы: одна с каштановыми волосами, какие были у их мамы, другая, светловолосая, – копия белокурого отца. И на девушку уставились две пары блестящих глаз – карих и синих. Акитон даже растерялась. Взгляды были одинаково открытые.
– Готова, – отозвалась она всерьёз, но тихо.
– К полёту на Планету Музыки девочка по имени Акитон готова! – подытожил Федя и задрожал от смеха, который означал, что какой-то там непонятный «полёт» просто не может состояться прямо сейчас.
Ваня был не менее упорным – он встал рядом с огромным экраном компьютера, будто актёр на сцене театра, и ликующе спросил:
– Тогда что, прыгаем?
– Куда прыгаем? Прямо в комп ныряем, что ли? – снова поддел брата Федя.
– Компьютер нам не нужен, потому что мы не ныряем, не улетаем, а исчезаем из реального мира, понял? – огрызнулся Ваня.
Хотя Феде было ясно, что брат преувеличивает свои возможности, но говорил Ваня настолько убедительно, что Акитон и вправду, кажется, начинала ему верить.
– Как это… исчезаем? – от растерянности рот Акитон так и остался открытым.
– А вот так это: куда бы мы сейчас не собирались – девчонкам там делать нечего. Да, Ваня? – ультимативно изрёк Федя. – Если мы надолго исчезнем или задержимся, то ты, Аки, нашему отцу сообщишь, куда мы подевались. Пока ведь неизвестно – работает ли выдуманная его душою тонкою игра или не работает, – опять веселясь, кивнул он на брата, и Ваня даже в лице изменился.
– Не беспокойся, работает, – сказал он обиженно. – И это не игра, а нервная система мироздания. К тому же у Акитон отличное знание музыки. Ей, как некоторым, бояться на этой планете нечего!
– «Нервная система мироздания», притяжение разных там атомов, в твоём глупом возрасте, братик, бывают довольно опасны – на занятиях по физподготовке я это неплохо усвоил. Подрастёшь – вот тогда, может, и о химии разных там чувств поговорим, – продолжал подшучивать Федя, и Ваня вздрогнул, будто он об этом думал, и его застигли на этих глупых мыслях.
– Может, и правда, оставайся? Мало ли, вдруг с тобой какой… – на всякий случай решил предупредить он Акитон.
Она стояла, переводя свой взгляд с одного на другого.
– Лечу. Точка. Мне тоже хочется открыть для себя новые звучания! – сказала она, будто это не подлежало обсуждению.
– Напрасно ты, Аки, «летишь», – недовольно пожал плечами Федя и отошёл в сторону.
– Единственное, о чём волнуюсь, – начала шептать Акитон стоящему рядом с ней Ване, – бабушка меня станет искать. Она вам, кстати, что-то там передала, – кивнула Акитон на тяжёлый рюкзак, который, войдя в студию, поставила на стул, а сейчас зачем-то снова начала с трудом забрасывать за спину.
Это говорило о том, что на самом деле Акитон особо не отдавала отчёта своим действиям. Её просто несло и всё.
– Не волнуйся! – успокоил её Ваня, и тоже шёпотом. – Бабушка Аллегра не успеет даже глазом моргнуть: на Планете Музыки проходит год, когда на земле пролетает мгновение.
– Э-э… хватит шептаться, нас здесь трое! И лично я к полёту всегда готов, – сказал Федя обиженно. – Иван, ворота межзвёздного портала открыты? Какими необычайными приключениями ты нас там побалуешь? Ну-ка, колись.
– Это не игра в межзвёздные войны, и мы не космонавты. А шутники вообще могут в другие «моря» улететь, – хмуро ответил Ваня.
И, замедляя не только темп речи, но даже свои движения, уверенно добавил:
– Лучше представьте себе пространство, в котором вы разрешите своему воображению настроиться на психоинформационные волны моего воображения.
Акитон, изумлённо глядя на Ваню, чувствовала, что мысленно действительно притягивается и соединяется с ним взглядом.
И Федя, который хотел поддеть младшего брата и «приколоться»: «психо… инфо… что-что-что?», почему-то не стал ничего говорить. Наоборот, уставился на Ваню излишне внимательно, будто его яркие голубые глаза заманили в западню, – так он «въехал» в него своим взглядом. И Ваня, удовлетворённо щёлкнул пальцами:
– Есть!
Складывалось ощущение, что он смотрел на них троих, включая и себя, но при этом глаза его были совсем не глазами, а становились высокоразвитым интеллектуальным порталом, и сам он замер и застыл, словно изваяние.
– Мы, – шевелил одними губами Ваня, – начинаем отправляться на Планету. Откройтесь ей, позвольте ей быть и будьте там, где живут Ноты, Интервалы, Аккорды… Музыкальная сущность, воплощаемая в нашем мире звуками, здесь существует полноценно, материально в формах жизни, сознания и плоти.
Такими же неподвижными становились все мускулы Феди и Акитон, их глаза перестали моргать, и картинка действительности медленно растворялась во множестве мелькающих цветов и оттенков, а все предметы невидимо и причудливо сгорали изнутри, как фотография, которую бросили в огонь.
Это было непостижимо! Это было поистине мучительное потрясение!
Но постепенно оцепенение начало спадать.
– Где мы? – шёпотом спросил, оглядываясь, Федя, – что мы… обретаем… космос? Офигеть, Ванька!
– Такой интеграции не было ни разу, это ты, Акитон, дала силу моей Вселенной!
Акитон, закусив губу, не обращала внимания на слова братьев, и была полностью поглощена фосфорическим и пока абсолютно неизвестным ей миром, который ещё не был отчётливо виден, но внутри она уже явственно ощущала его.
Кровь приливала к их головам и клокотала там от напряжения. Было странно не чувствовать под ногами тёплую родную землю. Вокруг только безжизненный мрак, который стал медленно наполняться жизнью, – и его прорезало сияние, звучавшее переливами несбыточной мечты.
– Ура! Смотрите, Планеты Музыкальной Системы! Цвета всех существующих на сегодня Тональностей! Сбылось! – закричал Иван.
Огромные круги, сложенные из космических струн и ступеней многомерного мира, выстроились в звукоряд и зазвучали ему в ответ триумфальными, но приятными раскатами.
От неожиданности и восторга Федя сделал сальто в воздухе.
Настроение Акитон тоже резко изменилось.
Звучание, сотканное из биений, дрожаний и трепетных пульсаций воображаемого Музыкального Космоса, захватывало. Вместе с ним нарождался колышущийся, будто вздымающаяся марина, и многообразный до противоречивости, бесконечный океан цвета.
Среди этой вселенской палитры один за другим загорались и выделялись круги – один живописнее другого. Их будто чертила рука небесного художника, творящего эту фантасмагорию вместе с бесплотным музыкантом, исполняющим космические гаммы на неведомом землянам инструменте.
И у каждого – Акитон, Феди, Вани – был свой цвет, свой «круг», своя тональность, своя Планета Музыки. И неизвестно, отчего каждый из троицы мгновенно определился, зная, куда именно ему надо следовать.
Федя, как всегда, первым выбрал своё направление. Он опрометью устремился в круг дрожащего от радости, романтически беспечного пурпура, соприкоснулся с ним, и тот рванул таким аккордом молодости и страсти багряного, что вместе со вспышкой произошла внезапная смена тональности, и парня подбросило ввысь, резко, как на батуте. От радостного вопля Феди решительно воспылал красный, за ним взбесился оранжевый, раскачивая взмывшее тело, как бельё на верёвке в ветреную погоду. И Фёдор, пока у него не иссякли последние силы, постарался поскорее оттолкнуться от оранжевой стихии и рухнул – провалился на самое «дно» синего моря цвета. Наслаждаясь этим «морским купанием», он плыл по течению, подхлёстываемый цветными волнами. До того самого момента, пока не увидел Акитон.
Блики золота на её длинных волосах его ослепили. Тёплый круг жёлтого ласкал, манил, притягивал, и Федя не выдержал – полетел в ту сторону, где в ясном пространстве солнечного утра мягко двигалось полное грации тело девушки. Вдвоём с Акитон они устремились туда, где на них хлынула масса зелёного цвета, воздух стал девственно чистым и прозрачным, они касались ступнями колышущейся от нежных дуновений ветерка травы на лужайке у дома, который только что покинули, и ощущали, что под ногами нет никакой опоры.
Её не было и у Вани, который, в отличие от Феди и Акитон, растворялся в вибрирующем мертвенном пятне фиолетового круга, покалывающем его худенькое тело мерцающими иголками, и становился частицей этого скорбного организма, утягивающего и засасывающего. И ему, вдохновившему всех на этот мысленный полёт, вдруг показалось, что он скоро сгинет в этом печальном круге, закручивающем его тело мощной струёй в воронку. И такая горечь появилась во рту, и так захотелось вернуться домой!
Хорошо, что из этого печального состояния его вывел голос Феди.
– Что, брат, плачешь? Да я сам готов разрыдаться – не ожидал такого безбрежного простора увидеть! Обалденно… намного круче, чем в музее космического цифрового искусства, намного… – с неподдельным восторгом признался он, приблизившись к брату.
И следом за ним с райской улыбкой подлетела и Акитон.
– Давайте возьмёмся за руки, чтобы быть на одной Планете! Очень хочется, чтобы мы вместе услышали, как звучит счастье! – взмолилась она.
И через минуту, чувствуя себя совершенно свободными, три фигуры с распростёртыми руками парили в разливающемся звуками нежности поразительно голубом сиянии.
Записки нуждающегося
Отрывок из повести
Утро ударило полным непонимание того, что вчера произошло. Мне радоваться или как? Назойливое ощущение растерянности монотонно зудело. Так бывает, когда вдруг получаешь то, чего очень долго хотел. Сразу пытаешься убедить себя, что произошла ошибка и никак не можешь понять, в чём именно. Остаётся принять радость, которая раздражает напоминанием о скоротечности и грубых последствиях.
На время отвлечься от неудобных мыслей мне, как ни странно, помог Фёдор. В тот день мы должны были выступать с прозой. Как обычно, у него всё было не готово. До начала конкурса оставался час, когда он залетел к нам с идиотской новостью о том, что не распечатал текст. В суетливой несобранности я помогал ему бродить по Прибрежному в поисках принтера. Занятие, конечно, опрометчивое, хотя, скоро нашёлся захудалый магазинчик с незамысловатой надписью на стекле: «Печать». Из небольшой комнаты выплыл толстый татарин средних лет и небрежно развалился у кассы.
– У вас можно распечатать, – спросил я?
Отрывок из повести
Утро ударило полным непонимание того, что вчера произошло. Мне радоваться или как? Назойливое ощущение растерянности монотонно зудело. Так бывает, когда вдруг получаешь то, чего очень долго хотел. Сразу пытаешься убедить себя, что произошла ошибка и никак не можешь понять, в чём именно. Остаётся принять радость, которая раздражает напоминанием о скоротечности и грубых последствиях.
На время отвлечься от неудобных мыслей мне, как ни странно, помог Фёдор. В тот день мы должны были выступать с прозой. Как обычно, у него всё было не готово. До начала конкурса оставался час, когда он залетел к нам с идиотской новостью о том, что не распечатал текст. В суетливой несобранности я помогал ему бродить по Прибрежному в поисках принтера. Занятие, конечно, опрометчивое, хотя, скоро нашёлся захудалый магазинчик с незамысловатой надписью на стекле: «Печать». Из небольшой комнаты выплыл толстый татарин средних лет и небрежно развалился у кассы.
– У вас можно распечатать, – спросил я?
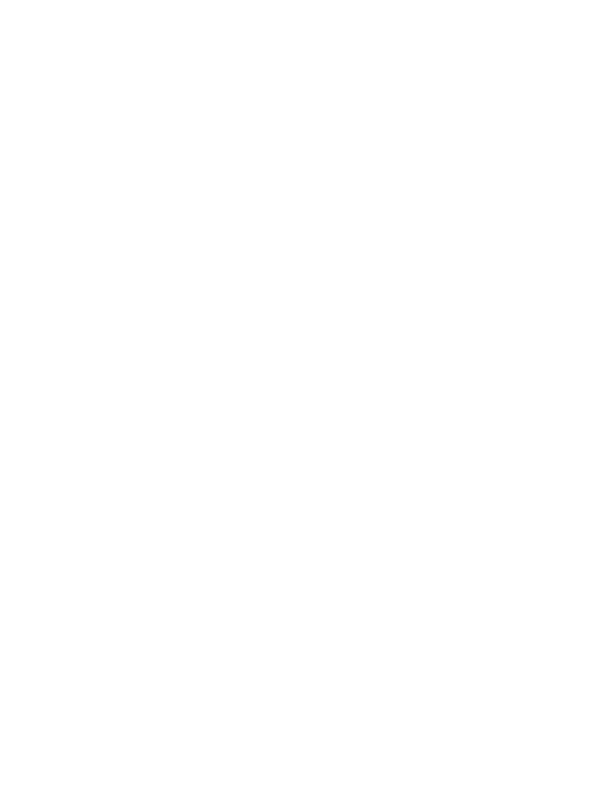
Максим Журавлёв
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
читать полностью...
Он сразу не ответил. Окинул меня долгим ленивым взглядом и заявил:
– Можно. Только одна страница будет стоить сто рублей.
– Сколько? – мне показалось, я не расслышал.
– Сто, – повторил он.
– Вы серьёзно? – я чувствовал, что закипаю. Он так противно лыбился, что хотелось ударить его в морду. Сто рублей за страницу! Я развернулся и на выходе громко хлопнул дверью. Фёдор, оказалось, даже не заходил. Он стоял снаружи и ждал.
– Что такое? – аккуратно поинтересовался он.
– Ты что, спал? – взъелся я.
– Я задумался… – он немного отошёл и вопросительно посмотрел на меня.
– Этот урод заломил сто рублей за страницу! – неожиданно для самого себя я повысил голос.
– И что теперь делать? – совершенно спокойно спросил Фёдор.
Меня удивило отсутствие в нём всякого переживания. По крайней мере, внешне Фёдор производил впечатление полного равнодушия. Я даже почувствовал себя неловко. Оставалась только одна возможность – мчаться в Саки. Через пять минут мы уже голосовали на трассе. Нас сразу подобрал автобус «Евпатория – Симферополь». Я, если честно, не помню, почему именно взялся помогать Фёдору и чем был, например, занят Егор. На самом деле я был даже рад этому маленькому приключению. Когда ты находишься в гуще событий, становится всё очень просто. Нет этого невыносимого промежутка между мыслью и делом. И так приятно двигаться.
Четыре рубля за страницу – такая была цена в ксероксе около Дома Культуры. Я ещё раз выругался в адрес наглого татарина, только мысленно. Так безбожно обирать людей... Больше всего злило, что чаще это делает даже не государство, которое м*****ё полное – здесь разговаривать не о чем, а обычные люди, жертвы той же социальной угнетённости: постоянное повышение цен, коррупционная система правосудия, воинская повинность, разрушение образовательной системы, отсутствие собственной культуры с постоянным заискиванием у запада. Государство постепенно превращается в автократическую машину по перемалыванию человеческих судеб. Студенты, обвиненные только за то, что они вышли выразить протест против действий избирательной комиссии – это демократическая страна? Задержания протестующих постоянно сопровождаются чрезмерным насилием со стороны силовых структур. Людей просто ломают. Научились на пытках в тюрьмах. А если вспомнить о том, как подкидываются наркотики, или вообще происходит политическое убийство? К тому же бесконечные попытки ущемления либеральных прав с помощью идиотских законов: «Закон Яровой», «Закон о лайках и репостах», «Закон о неуважении к власти»… И это только верхушка айсберга. Естественно, пинок под зад рождает озлобленность, которая стремится уколоть того, кто рядом. Не привык народ наш выражать своё мнение, как не привык бороться за него. И этим пользуются… Помню, я слушал как-то лекцию Анатолия Королёва. Он рассказывал про свой журналистский опыт в криминальной хронике. Закрытый судебный процесс. Рассматривалось дело женщины, которая убила мужа. Два с половиной года она ожидала уголовного процесса. Муж – садист, постоянно избивал её. И вот такая картина: небольшой городок Гремячинск, почти село, поздний вечер. Женщина достала заточенный топорик для рубки капусты, включила радио и приготовила разделочную доску. Супруг как обычно вернулся домой пьяным, сильно побил её и, совершив это чудовищно частое преступление, с полным хладнокровием заснул. Прекрасная русская идиллия. А дальше совсем "достоевщина". Женщина, находясь в состоянии шока и полного отчаяния, взяла топорик и зарубила его. Прямо в самое горло. Вроде как даже отрубила голову. Хотя… И везде брызги крови. И сразу осознание, страх и добровольное признание. В зал заседания привезли целый автобус свидетелей. И что самое необычное, они сразу приняли сторону обвинения. Началось вспоминание всех ссор и обид. И как она что кому не вернула, и как что кому испортила. Почти двадцать человек – и все как один. Спасти дело могло только чудо, и… На второй день суда в качестве свидетеля вдруг появилась дочь, сбежавшая от отца и матери. Она вышла на трибуну и заявила, что отец её насиловал и избивал. Самая жуть была в том, что у девушки не было одного глаза из-за побоев. Сама она была высокая, чёрненькая, какая-то очень сознательная, даже умная, и почти красивая, правда, замызганная, как бродячая кошка. Зал окутало гробовое молчание. Судом было вынесено решения признать женщину виновной в убийстве и наказать сроком лишения свободы на два с половиной года, которые она уже отсидела. Фактически она получала свободу. И тут все свидетели бросились к ней и стали причитать: «Что ж ты не говорила, мы же всё видели»; «бедная, бедная»; «а помнишь, как я тебя от крови отмывала»; «а помнишь, как он побил тебя, и ты у меня ночевала».
Как сумбурны мысли в головах.
Такие дела.
* * *
Для выступления мне пришлось убрать из рассказа всю нецензурную лексику. Это, на самом деле, не важно. Слова можно заменить – суть останется, но всё равно неприятно. Это же искусство! Какая разница? Маты… Не в них дело. Дело в искренности. Так почему бы не писать об этом? Я понимаю, если б мои слова шли вразрез с современным искусством, как, например, было с диссидентами и соцреализмом, но, когда есть признанные Ерофеев, Сорокин, Лимонов и т.д., уже не смешно.
В тот же день выступал пожилой мужчина с обманчиво куртуазной улыбкой беса. Он читал небольшие зарисовки. Очень талантливые. Но ему никак не давали закончить. Только члены жюри слышали ругательство, текст сразу прерывался. После второго замечания мужчине пришлось выбрать зарисовку "поприличнее". Она тоже была ничего. Но не так хороша. В любом случае, он оказался чуть ли не единственным, кто действительно заслуживал награды. И что? Забегая вперёд, скажу – н***я ему не досталось. И мне н***я не досталось. Все хлопали, а награду не дали. П****ы. Живут в каком-то девятнадцатом веке со своими представлениями о литературе.
Вообще, все эти творческие конкурсы – чушь. Я даже толком не знаю, для чего они нужны. Чтобы тебя заметили? И что? Ну приняли меня в союз писателей. Что дальше? Плати, говорят, каждый год нам тысячу рублей. Это мелочь, конечно, мне не сложно совсем. Но для чего? Я даже эту писанину не смогу там показать, потому что, видите ли, нецензурщина.
Вообще, я зря ругаюсь на крымские литературные организации. Грех слепого обижать. Не там искусство настоящее делается. Не там…
На самом деле я чувствую сейчас себя гадко. Это как бить больного старика. Много чести не нужно. А я так агрессивно нападаю. Стыдно…
Скоро пошёл дождь. Капли липли к окнам. Стекал размякший асфальт. Я так увлёкся своим выступлением, что не заметил, как ком подступил к горлу. Голос дрожал, было больно глотать. И никто не заметил, кроме неё. Больше всего хотелось уйти. Если бы не глаза Рианы…
Она молчала, но смотрела. И она видела. Понимала. Но молчала.
– Пойдём? – вдруг предложила она.
Я удивился и сильно обрадовался. Мы тихо улизнули на второй этаж и долго наблюдали за мокрой серостью. Я до сих пор благодарен Риане за то, что она поддержала меня тогда. Но для меня остаётся загадкой, как между едва знакомыми людьми может вспыхнуть тонкая эмоциональная связь? Как можно чувствовать другого человека? Что мы за устройства такие? Один мой друг сказал как-то, что всё, о чём я думаю, хорошо видно. Наверное, это правда. Я активно жестикулирую во время разговора и тем более выступления. Когда я прочёл рассказ, по залу покатились аплодисменты, было слышно, как люди высказывают друг другу впечатления, а я еле сдерживался. Кто-то даже похлопал меня по плечу. Несколько человек бросали вслед пустые похвалы. Хлеба и зрелищ, как говориться, или им было всё равно? Не знаю. Зал часто аплодировал.
Наконец моё место в самом конце – уединение в углях жизни. Просто перестаньте! Просто забудьте! Сквозь тонкую попытку защититься лезло два жгучих голоса. Они повернулись и начали лживо описывать свои впечатления. И улыбались. Если по мне видно, как плохо я себя чувствую, зачем улыбаться? Я не понимаю. Не понимаю…
Хочу всё-таки верить в эмоциональную связь. Хотя бы тогда, в первые дни. Думай обо мне что хочешь.
Когда солнце лизнуло причудливые ватные мякиши, мы отправились в магазин.
– Что ты будешь брать? – спросила Риана. Она сосредоточенно всматривалась в стекло витрины.
– Пачку творога, – я кивнул головой на яркий прямоугольник в большинстве своём оранжевого цвета.
– «Молочное королевство»? – уточнила она.
Я присмотрелся.
– Да.
На этикетке рядом с красным названием стоял юноша в широкополой красной шляпе, таком же красном мундире и красных сапогах. Только штаны у него были почему-то серые.
– Какой-то он дешёвый слишком, – справедливо заметила Риана. Она наклонилась и недоверчиво изучала упаковку.
Я сообщил заказ разукрашенной продавщице, после чего она очень медленно потянулась за творогом. Ну очень медленно. Я успел задуматься, что как не посмотрю на продавщиц, они почти всегда разукрашенные. Есть в этом какая-то странная закономерность. И она мне не нравится. Хотя, разукрашенные женщины, даже если они не связанны с делом купли-продажи вообще, не вызывают у меня восторга. А что делать? Такое общество, такие нравы. Приходится «слабому полу» быть частью любовной игры. Привыкли за столько лет выставлять себя на продажу как этот дурацкий творог, дизайн которого эпатировал своей пёстростью. А получилось всё равно дёшево…
– Вкусно? – всё ещё колебалась Риана.
– Там много кураги, – решил я начать с самого главного достоинства…
Наконец творог оказался в руках у продавщицы. Я положил три металлических кружочка на монетницу и кинул пачку в рюкзак.
– Ладно, – как-то с грустинкой сказала Риана, – я тоже возьму. – Она заставила женщину пуститься в повторное путешествие, добавив к заказу ещё воду. – А то я успела тысячу спустить за сутки, – она виновато поджала нижнюю губу.
– Чем ты питалась? – я посматривал на холодильник с пивом, но решил не спешить.
Тысяча за сутки – это, с одной стороны, много, особенно если ты сам не зарабатываешь, а с другой – и ничего совсем. Бах – и нет. Капиталистический дуализм.
– В столовой два раза поела и так, по мелочам, – Риана получила свой заказ намного быстрее, несмотря на то, что он был усложнён. Видимо, я тоже не нравлюсь разукрашенным женщинам.
– Там так дорого? – удивился я.
– Триста рублей выходило за суп, пюре с котлетой, компот и хлеб.
– Значит дело в мелочах? – нащупал я самое интересное.
Риана утрированно-серьёзно посмотрела на меня, сузила глаза и вдруг запричитала:
– Не могла удержаться – накупила чипсов с колой. Я обычно не ем, но вчера… Иногда же можно, да? Как сложно всегда всё делать правильно. Надо было…
– Конечно, можно, Риана. Что такое? – я с нежностью смотрел на её милое недовольство.
Такие вот моменты жизни не дают вынести окончательный вердикт о её непригодности. Как обычно всё сложно и закручено.
– Макс, – вдруг окликнул меня Фёдор, – круто сегодня выступил. А говорил, что сцены боишься.
Я встревожено обернулся. Егор и Фёдор стояли у входа. Видимо, творческий вечер закончился. Фёдор, как обычно, сразу насел с разговором:
– Конечно, можно было ровнее прочесть, но и так нормально.
– Спасибо, – растерянно сказал я.
Фёдор уже выбирал колбасу.
– Да, Макс, классно прочёл. Ты по-любому место получишь, – согласился Егор.
– Спасибо. Действительно приятно, – на смену растерянности пришло мягкое спокойствие.
– Сегодня будем пить? – задал интересовавший меня вопрос Фёдор.
– Не знаю, – Егор полез в карман и достал кошелёк.
– Давайте ближе к вечеру решим, – предложил я. Наверное, мне было не совсем удобно размышлять о выпивке, когда где-то рядом вертелась Риана.
– Ладно, – не стал спорить Фёдор.
К слову о Риане. Она почему-то в первую секунду активности Егора и Фёдора постаралась раствориться в потоке покупателей. И только спустя минуту решилась показать своё присутствие. Как раз когда мы закончили беседу о выпивке.
– Привет, – сказала она, как бы случайно появившись рядом.
– О, привет, – обрадовался Фёдор. – Очень красиво пишешь, – засуетился он, – мне понравилось, как ты читала.
– Спасибо большое, – улыбнулась она. – Мне нужно зайти в аптеку, а потом хочется немного отдохнуть. Тяжело ничего не делать, – Риана как-то слишком суетливо захохотала и кинула на меня торопливый взгляд.
– Тогда до вечера? – спросил я.
– Да, увидимся позже, – кивнула она и быстрым шагом растворилась
– Увидимся, – пришлось мне бросить уже вслед.
– Пока, – сказал Егор.
– Пока, – повторил Фёдор.
Я тоже вышел через минуту и стал рассматривать прохожих. Вялая текучка полурасслабленных толстосумов с их облезшими кошечками-жёнами и сворой вечно недовольных детей. Скоро ко мне присоединился Егор. В одной руке он держал небольшой прозрачный пакет, а в другой – сникерс.
– Деньги только так улетают, – пробурчал он. Новый человек в разговоре – и снова про деньги… Деньги, деньги, деньги. Совсем плохо живётся нам, раз заедает это слово в голове. Гораздо позже описываемого момента я говорил со своей итальянской коллегой Ирис о всяких житейских глупостях: «Деньги… деньги… – Россия», – глубокомысленно заключила она и кинула окурок самокрутки в урну.
– А что делать? – ответил я лениво.
Съев сникерс за три укуса, Егор достал пачку «Парламента» и закурил.
– Будешь? – предложил он.
– Нет, спасибо.
– Как хочешь.
– Я ещё не в той консистенции, – курить в трезвом состоянии казалось мне первым звоночком никотиновой зависимости.
Он понимающе закивал головой.
– Лучше вообще не кури, Макс.
– Мне нравится. Такое приятное расслабляюще-туманное чувство накатывает, – я замахал руками, по-видимому, пытаясь изобразить это самое расслабляюще-туманное чувство.
– Это потому что организм не привык к никотину, – со знанием дела сказал Егор. После этого он особенного глубоко затянулся и выпустил дым через нос. – На меня уже так не действуют сигареты, – он снова сильно затянулся, как бы проверяя свои слова. – Привычка.
– Это понятно, но я редко курю, мож…
– Всё равно подсядешь, – прервал он меня.
Я заметил проходившую мимо Риану. Она нелепо улыбнулась и скрылась между копошащимися прилавками.
– Мне кажется, зависимость прежде всего на психологическом уровне вырабатывается – ударился я в рассуждения.
– Наверное, – согласился Егор, – только потом организм всё равно привыкает. Бывших курильщиков не бывает. Всегда хочется. – Он осмотрелся в поисках урны, но её нигде не было. – Знаешь, главное – не делать из сигареты культ. – Егор потушил бычок о стену магазина и засунул назад в пачку.
– Культ?
– Ну да. Я имею в виду всю эту чепуху про то, что красиво сидеть с сигаретой за чашкой кофе. К сигаретам лучше относится как к чему-то несущественному. Вот, допустим, как к жвачке, – он изобразил, будто жуёт. – Я редко ем жвачку, потому что мне наплевать на неё, но иногда хочется почувствовать приятный вкус во рту. А иногда жвачка нужна, чтобы перебить запах. Понимаешь, о чём я?
– Думаю, да, – я внимательно следил за его мыслью.
– Мне, в общем-то, наплевать на жвачку, но я умею получить от неё удовольствие и пользу. Также нужно относиться к сигаретам. Только когда по-настоящему хочется получить это ощущение лёгкой расслабленности, можно достать сигаретку… Ну, ты меня понял, – Егор вытащил из кармана пачку «Парламента», поднёс ко рту и губами потянул за фильтр.
– Мне кажется, я примерно так и делаю.
– Вот и расскажешь потом, сработало или нет, – он внимательно посмотрел на меня и лениво поправил волосы, как будто нехотя.
Только я хотел начать вслух обижаться, что Фёдор так долго торчит в магазине, хотя было бы странно ожидать другой расклад событий, как он вышел. Правда, сразу стало ясно, что есть проблема. Он ничего не купил.
– Что такое? – удивился Егор.
– Я кошелёк забыл, – невозмутимо ответил Фёдор. Он стоял, немного ссутулившись и со слегка прищуренным правым глазом.
– Так давай я тебе займу? – Мне хотелось движения. Слишком долго мы торчали в этом месте. И откуда во мне вертелось столько энергии?
– Если не сложно, – Фёдор виновато смотрел на мой кошелёк, который я уже успел выудить из рюкзака.
Я сунул ему пятисотрублевую купюру и…
…опять попалась Риана. Мы пересеклись взглядом. Она пожала плечами и как-то растерянно улыбнулась. В голове завертелся коротышка Бубенчик, и я прыснул от смеха. Риана стояла на месте и всем своим видом отказывалась пытаться снова. То есть, просто вопросительно смотрела на меня. Егор стоял спиной к ней и очень удивился моему нелепому смешку.
– Секунду, – сказал я, ничего не объяснил и поспешил к Риане.
До неё было всего триста метров, но даже на таком коротком расстоянии можно найти приключения. И я нашёл. Пузатый мужик со стаканом пива о чём-то замечтался и на полном ходу вписался в меня. Он успел отвести руку с напитком в сторону, чем спас меня и себя от кучи проблем. К слову говоря, я тоже о чём-то замечтался, раз не заметил такого массивного обитателя Прибрежного. Я был откинут его жиром на несколько шагов назад, но сумел удержаться на ногах. Обоюдно извинившись, мы быстро разошлись. Возвращаясь к причине моего мечтания – это был запах чебуреков. Мне вдруг так сильно захотелось чебуреков, но денег было жалко. Опять деньги… Сырные, куриные, говяжьи и – в качестве лаврового венка на голову победителя – королевские чебуреки. Прозябающая в мире социальных сетей девушка-продавец как будто почувствовала моё сильное желание и стала активно вещать: «Горячие чебуреки! Недорого!» Наконец мой витиеватый путь к Риане закончился, и я задал самый логичный вопрос, без шуток:
– Что такое?
– Не подскажешь, в какой стороне наш дом? – решила она не зацикливаться на инциденте с мужчиной и пивом, а сразу перейти к делу.
– Конечно, в той, – я показал рукой налево.
– Спасибо.
Она быстро зашагала в указанную сторону, даже не попрощавшись.
– Можно. Только одна страница будет стоить сто рублей.
– Сколько? – мне показалось, я не расслышал.
– Сто, – повторил он.
– Вы серьёзно? – я чувствовал, что закипаю. Он так противно лыбился, что хотелось ударить его в морду. Сто рублей за страницу! Я развернулся и на выходе громко хлопнул дверью. Фёдор, оказалось, даже не заходил. Он стоял снаружи и ждал.
– Что такое? – аккуратно поинтересовался он.
– Ты что, спал? – взъелся я.
– Я задумался… – он немного отошёл и вопросительно посмотрел на меня.
– Этот урод заломил сто рублей за страницу! – неожиданно для самого себя я повысил голос.
– И что теперь делать? – совершенно спокойно спросил Фёдор.
Меня удивило отсутствие в нём всякого переживания. По крайней мере, внешне Фёдор производил впечатление полного равнодушия. Я даже почувствовал себя неловко. Оставалась только одна возможность – мчаться в Саки. Через пять минут мы уже голосовали на трассе. Нас сразу подобрал автобус «Евпатория – Симферополь». Я, если честно, не помню, почему именно взялся помогать Фёдору и чем был, например, занят Егор. На самом деле я был даже рад этому маленькому приключению. Когда ты находишься в гуще событий, становится всё очень просто. Нет этого невыносимого промежутка между мыслью и делом. И так приятно двигаться.
Четыре рубля за страницу – такая была цена в ксероксе около Дома Культуры. Я ещё раз выругался в адрес наглого татарина, только мысленно. Так безбожно обирать людей... Больше всего злило, что чаще это делает даже не государство, которое м*****ё полное – здесь разговаривать не о чем, а обычные люди, жертвы той же социальной угнетённости: постоянное повышение цен, коррупционная система правосудия, воинская повинность, разрушение образовательной системы, отсутствие собственной культуры с постоянным заискиванием у запада. Государство постепенно превращается в автократическую машину по перемалыванию человеческих судеб. Студенты, обвиненные только за то, что они вышли выразить протест против действий избирательной комиссии – это демократическая страна? Задержания протестующих постоянно сопровождаются чрезмерным насилием со стороны силовых структур. Людей просто ломают. Научились на пытках в тюрьмах. А если вспомнить о том, как подкидываются наркотики, или вообще происходит политическое убийство? К тому же бесконечные попытки ущемления либеральных прав с помощью идиотских законов: «Закон Яровой», «Закон о лайках и репостах», «Закон о неуважении к власти»… И это только верхушка айсберга. Естественно, пинок под зад рождает озлобленность, которая стремится уколоть того, кто рядом. Не привык народ наш выражать своё мнение, как не привык бороться за него. И этим пользуются… Помню, я слушал как-то лекцию Анатолия Королёва. Он рассказывал про свой журналистский опыт в криминальной хронике. Закрытый судебный процесс. Рассматривалось дело женщины, которая убила мужа. Два с половиной года она ожидала уголовного процесса. Муж – садист, постоянно избивал её. И вот такая картина: небольшой городок Гремячинск, почти село, поздний вечер. Женщина достала заточенный топорик для рубки капусты, включила радио и приготовила разделочную доску. Супруг как обычно вернулся домой пьяным, сильно побил её и, совершив это чудовищно частое преступление, с полным хладнокровием заснул. Прекрасная русская идиллия. А дальше совсем "достоевщина". Женщина, находясь в состоянии шока и полного отчаяния, взяла топорик и зарубила его. Прямо в самое горло. Вроде как даже отрубила голову. Хотя… И везде брызги крови. И сразу осознание, страх и добровольное признание. В зал заседания привезли целый автобус свидетелей. И что самое необычное, они сразу приняли сторону обвинения. Началось вспоминание всех ссор и обид. И как она что кому не вернула, и как что кому испортила. Почти двадцать человек – и все как один. Спасти дело могло только чудо, и… На второй день суда в качестве свидетеля вдруг появилась дочь, сбежавшая от отца и матери. Она вышла на трибуну и заявила, что отец её насиловал и избивал. Самая жуть была в том, что у девушки не было одного глаза из-за побоев. Сама она была высокая, чёрненькая, какая-то очень сознательная, даже умная, и почти красивая, правда, замызганная, как бродячая кошка. Зал окутало гробовое молчание. Судом было вынесено решения признать женщину виновной в убийстве и наказать сроком лишения свободы на два с половиной года, которые она уже отсидела. Фактически она получала свободу. И тут все свидетели бросились к ней и стали причитать: «Что ж ты не говорила, мы же всё видели»; «бедная, бедная»; «а помнишь, как я тебя от крови отмывала»; «а помнишь, как он побил тебя, и ты у меня ночевала».
Как сумбурны мысли в головах.
Такие дела.
* * *
Для выступления мне пришлось убрать из рассказа всю нецензурную лексику. Это, на самом деле, не важно. Слова можно заменить – суть останется, но всё равно неприятно. Это же искусство! Какая разница? Маты… Не в них дело. Дело в искренности. Так почему бы не писать об этом? Я понимаю, если б мои слова шли вразрез с современным искусством, как, например, было с диссидентами и соцреализмом, но, когда есть признанные Ерофеев, Сорокин, Лимонов и т.д., уже не смешно.
В тот же день выступал пожилой мужчина с обманчиво куртуазной улыбкой беса. Он читал небольшие зарисовки. Очень талантливые. Но ему никак не давали закончить. Только члены жюри слышали ругательство, текст сразу прерывался. После второго замечания мужчине пришлось выбрать зарисовку "поприличнее". Она тоже была ничего. Но не так хороша. В любом случае, он оказался чуть ли не единственным, кто действительно заслуживал награды. И что? Забегая вперёд, скажу – н***я ему не досталось. И мне н***я не досталось. Все хлопали, а награду не дали. П****ы. Живут в каком-то девятнадцатом веке со своими представлениями о литературе.
Вообще, все эти творческие конкурсы – чушь. Я даже толком не знаю, для чего они нужны. Чтобы тебя заметили? И что? Ну приняли меня в союз писателей. Что дальше? Плати, говорят, каждый год нам тысячу рублей. Это мелочь, конечно, мне не сложно совсем. Но для чего? Я даже эту писанину не смогу там показать, потому что, видите ли, нецензурщина.
Вообще, я зря ругаюсь на крымские литературные организации. Грех слепого обижать. Не там искусство настоящее делается. Не там…
На самом деле я чувствую сейчас себя гадко. Это как бить больного старика. Много чести не нужно. А я так агрессивно нападаю. Стыдно…
Скоро пошёл дождь. Капли липли к окнам. Стекал размякший асфальт. Я так увлёкся своим выступлением, что не заметил, как ком подступил к горлу. Голос дрожал, было больно глотать. И никто не заметил, кроме неё. Больше всего хотелось уйти. Если бы не глаза Рианы…
Она молчала, но смотрела. И она видела. Понимала. Но молчала.
– Пойдём? – вдруг предложила она.
Я удивился и сильно обрадовался. Мы тихо улизнули на второй этаж и долго наблюдали за мокрой серостью. Я до сих пор благодарен Риане за то, что она поддержала меня тогда. Но для меня остаётся загадкой, как между едва знакомыми людьми может вспыхнуть тонкая эмоциональная связь? Как можно чувствовать другого человека? Что мы за устройства такие? Один мой друг сказал как-то, что всё, о чём я думаю, хорошо видно. Наверное, это правда. Я активно жестикулирую во время разговора и тем более выступления. Когда я прочёл рассказ, по залу покатились аплодисменты, было слышно, как люди высказывают друг другу впечатления, а я еле сдерживался. Кто-то даже похлопал меня по плечу. Несколько человек бросали вслед пустые похвалы. Хлеба и зрелищ, как говориться, или им было всё равно? Не знаю. Зал часто аплодировал.
Наконец моё место в самом конце – уединение в углях жизни. Просто перестаньте! Просто забудьте! Сквозь тонкую попытку защититься лезло два жгучих голоса. Они повернулись и начали лживо описывать свои впечатления. И улыбались. Если по мне видно, как плохо я себя чувствую, зачем улыбаться? Я не понимаю. Не понимаю…
Хочу всё-таки верить в эмоциональную связь. Хотя бы тогда, в первые дни. Думай обо мне что хочешь.
Когда солнце лизнуло причудливые ватные мякиши, мы отправились в магазин.
– Что ты будешь брать? – спросила Риана. Она сосредоточенно всматривалась в стекло витрины.
– Пачку творога, – я кивнул головой на яркий прямоугольник в большинстве своём оранжевого цвета.
– «Молочное королевство»? – уточнила она.
Я присмотрелся.
– Да.
На этикетке рядом с красным названием стоял юноша в широкополой красной шляпе, таком же красном мундире и красных сапогах. Только штаны у него были почему-то серые.
– Какой-то он дешёвый слишком, – справедливо заметила Риана. Она наклонилась и недоверчиво изучала упаковку.
Я сообщил заказ разукрашенной продавщице, после чего она очень медленно потянулась за творогом. Ну очень медленно. Я успел задуматься, что как не посмотрю на продавщиц, они почти всегда разукрашенные. Есть в этом какая-то странная закономерность. И она мне не нравится. Хотя, разукрашенные женщины, даже если они не связанны с делом купли-продажи вообще, не вызывают у меня восторга. А что делать? Такое общество, такие нравы. Приходится «слабому полу» быть частью любовной игры. Привыкли за столько лет выставлять себя на продажу как этот дурацкий творог, дизайн которого эпатировал своей пёстростью. А получилось всё равно дёшево…
– Вкусно? – всё ещё колебалась Риана.
– Там много кураги, – решил я начать с самого главного достоинства…
Наконец творог оказался в руках у продавщицы. Я положил три металлических кружочка на монетницу и кинул пачку в рюкзак.
– Ладно, – как-то с грустинкой сказала Риана, – я тоже возьму. – Она заставила женщину пуститься в повторное путешествие, добавив к заказу ещё воду. – А то я успела тысячу спустить за сутки, – она виновато поджала нижнюю губу.
– Чем ты питалась? – я посматривал на холодильник с пивом, но решил не спешить.
Тысяча за сутки – это, с одной стороны, много, особенно если ты сам не зарабатываешь, а с другой – и ничего совсем. Бах – и нет. Капиталистический дуализм.
– В столовой два раза поела и так, по мелочам, – Риана получила свой заказ намного быстрее, несмотря на то, что он был усложнён. Видимо, я тоже не нравлюсь разукрашенным женщинам.
– Там так дорого? – удивился я.
– Триста рублей выходило за суп, пюре с котлетой, компот и хлеб.
– Значит дело в мелочах? – нащупал я самое интересное.
Риана утрированно-серьёзно посмотрела на меня, сузила глаза и вдруг запричитала:
– Не могла удержаться – накупила чипсов с колой. Я обычно не ем, но вчера… Иногда же можно, да? Как сложно всегда всё делать правильно. Надо было…
– Конечно, можно, Риана. Что такое? – я с нежностью смотрел на её милое недовольство.
Такие вот моменты жизни не дают вынести окончательный вердикт о её непригодности. Как обычно всё сложно и закручено.
– Макс, – вдруг окликнул меня Фёдор, – круто сегодня выступил. А говорил, что сцены боишься.
Я встревожено обернулся. Егор и Фёдор стояли у входа. Видимо, творческий вечер закончился. Фёдор, как обычно, сразу насел с разговором:
– Конечно, можно было ровнее прочесть, но и так нормально.
– Спасибо, – растерянно сказал я.
Фёдор уже выбирал колбасу.
– Да, Макс, классно прочёл. Ты по-любому место получишь, – согласился Егор.
– Спасибо. Действительно приятно, – на смену растерянности пришло мягкое спокойствие.
– Сегодня будем пить? – задал интересовавший меня вопрос Фёдор.
– Не знаю, – Егор полез в карман и достал кошелёк.
– Давайте ближе к вечеру решим, – предложил я. Наверное, мне было не совсем удобно размышлять о выпивке, когда где-то рядом вертелась Риана.
– Ладно, – не стал спорить Фёдор.
К слову о Риане. Она почему-то в первую секунду активности Егора и Фёдора постаралась раствориться в потоке покупателей. И только спустя минуту решилась показать своё присутствие. Как раз когда мы закончили беседу о выпивке.
– Привет, – сказала она, как бы случайно появившись рядом.
– О, привет, – обрадовался Фёдор. – Очень красиво пишешь, – засуетился он, – мне понравилось, как ты читала.
– Спасибо большое, – улыбнулась она. – Мне нужно зайти в аптеку, а потом хочется немного отдохнуть. Тяжело ничего не делать, – Риана как-то слишком суетливо захохотала и кинула на меня торопливый взгляд.
– Тогда до вечера? – спросил я.
– Да, увидимся позже, – кивнула она и быстрым шагом растворилась
– Увидимся, – пришлось мне бросить уже вслед.
– Пока, – сказал Егор.
– Пока, – повторил Фёдор.
Я тоже вышел через минуту и стал рассматривать прохожих. Вялая текучка полурасслабленных толстосумов с их облезшими кошечками-жёнами и сворой вечно недовольных детей. Скоро ко мне присоединился Егор. В одной руке он держал небольшой прозрачный пакет, а в другой – сникерс.
– Деньги только так улетают, – пробурчал он. Новый человек в разговоре – и снова про деньги… Деньги, деньги, деньги. Совсем плохо живётся нам, раз заедает это слово в голове. Гораздо позже описываемого момента я говорил со своей итальянской коллегой Ирис о всяких житейских глупостях: «Деньги… деньги… – Россия», – глубокомысленно заключила она и кинула окурок самокрутки в урну.
– А что делать? – ответил я лениво.
Съев сникерс за три укуса, Егор достал пачку «Парламента» и закурил.
– Будешь? – предложил он.
– Нет, спасибо.
– Как хочешь.
– Я ещё не в той консистенции, – курить в трезвом состоянии казалось мне первым звоночком никотиновой зависимости.
Он понимающе закивал головой.
– Лучше вообще не кури, Макс.
– Мне нравится. Такое приятное расслабляюще-туманное чувство накатывает, – я замахал руками, по-видимому, пытаясь изобразить это самое расслабляюще-туманное чувство.
– Это потому что организм не привык к никотину, – со знанием дела сказал Егор. После этого он особенного глубоко затянулся и выпустил дым через нос. – На меня уже так не действуют сигареты, – он снова сильно затянулся, как бы проверяя свои слова. – Привычка.
– Это понятно, но я редко курю, мож…
– Всё равно подсядешь, – прервал он меня.
Я заметил проходившую мимо Риану. Она нелепо улыбнулась и скрылась между копошащимися прилавками.
– Мне кажется, зависимость прежде всего на психологическом уровне вырабатывается – ударился я в рассуждения.
– Наверное, – согласился Егор, – только потом организм всё равно привыкает. Бывших курильщиков не бывает. Всегда хочется. – Он осмотрелся в поисках урны, но её нигде не было. – Знаешь, главное – не делать из сигареты культ. – Егор потушил бычок о стену магазина и засунул назад в пачку.
– Культ?
– Ну да. Я имею в виду всю эту чепуху про то, что красиво сидеть с сигаретой за чашкой кофе. К сигаретам лучше относится как к чему-то несущественному. Вот, допустим, как к жвачке, – он изобразил, будто жуёт. – Я редко ем жвачку, потому что мне наплевать на неё, но иногда хочется почувствовать приятный вкус во рту. А иногда жвачка нужна, чтобы перебить запах. Понимаешь, о чём я?
– Думаю, да, – я внимательно следил за его мыслью.
– Мне, в общем-то, наплевать на жвачку, но я умею получить от неё удовольствие и пользу. Также нужно относиться к сигаретам. Только когда по-настоящему хочется получить это ощущение лёгкой расслабленности, можно достать сигаретку… Ну, ты меня понял, – Егор вытащил из кармана пачку «Парламента», поднёс ко рту и губами потянул за фильтр.
– Мне кажется, я примерно так и делаю.
– Вот и расскажешь потом, сработало или нет, – он внимательно посмотрел на меня и лениво поправил волосы, как будто нехотя.
Только я хотел начать вслух обижаться, что Фёдор так долго торчит в магазине, хотя было бы странно ожидать другой расклад событий, как он вышел. Правда, сразу стало ясно, что есть проблема. Он ничего не купил.
– Что такое? – удивился Егор.
– Я кошелёк забыл, – невозмутимо ответил Фёдор. Он стоял, немного ссутулившись и со слегка прищуренным правым глазом.
– Так давай я тебе займу? – Мне хотелось движения. Слишком долго мы торчали в этом месте. И откуда во мне вертелось столько энергии?
– Если не сложно, – Фёдор виновато смотрел на мой кошелёк, который я уже успел выудить из рюкзака.
Я сунул ему пятисотрублевую купюру и…
…опять попалась Риана. Мы пересеклись взглядом. Она пожала плечами и как-то растерянно улыбнулась. В голове завертелся коротышка Бубенчик, и я прыснул от смеха. Риана стояла на месте и всем своим видом отказывалась пытаться снова. То есть, просто вопросительно смотрела на меня. Егор стоял спиной к ней и очень удивился моему нелепому смешку.
– Секунду, – сказал я, ничего не объяснил и поспешил к Риане.
До неё было всего триста метров, но даже на таком коротком расстоянии можно найти приключения. И я нашёл. Пузатый мужик со стаканом пива о чём-то замечтался и на полном ходу вписался в меня. Он успел отвести руку с напитком в сторону, чем спас меня и себя от кучи проблем. К слову говоря, я тоже о чём-то замечтался, раз не заметил такого массивного обитателя Прибрежного. Я был откинут его жиром на несколько шагов назад, но сумел удержаться на ногах. Обоюдно извинившись, мы быстро разошлись. Возвращаясь к причине моего мечтания – это был запах чебуреков. Мне вдруг так сильно захотелось чебуреков, но денег было жалко. Опять деньги… Сырные, куриные, говяжьи и – в качестве лаврового венка на голову победителя – королевские чебуреки. Прозябающая в мире социальных сетей девушка-продавец как будто почувствовала моё сильное желание и стала активно вещать: «Горячие чебуреки! Недорого!» Наконец мой витиеватый путь к Риане закончился, и я задал самый логичный вопрос, без шуток:
– Что такое?
– Не подскажешь, в какой стороне наш дом? – решила она не зацикливаться на инциденте с мужчиной и пивом, а сразу перейти к делу.
– Конечно, в той, – я показал рукой налево.
– Спасибо.
Она быстро зашагала в указанную сторону, даже не попрощавшись.
Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Каждый диалог — метание единственной гранаты туда-сюда, как в детстве: горячо! Печёная, ну чтоб её, картошка. Вчера ты целовал моё плечо, а я тебя царапала, как кошка, и мир взрывался где-то за окном дождём, неотвратимым и беспечным, ты брал меня — на хитрость, на приём, — и губы осыпал мои картечью.
Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Вот тебе порог, а вот — дорога, нужен провожатый? Шагами поутоптанная пыль, деревья, почерневшие от гари… Вчера холодный край моей стопы бездумно по диванной кромке шарил, и мир взрывался где-то за окном закатом, а потом уже рассветом, ты брал меня — на поле боевом, — наполовину всё ещё одетой.
Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Каждый одинок, и никого, кто был бы виноватым. И никого, ты слышишь, никого? Осела пыль в молчании дорожном. Вчера ты выходил из берегов, сегодня — утекаешь осторожно, и мир дрожит от взрывов изнутри, а за окном теперь всё тихо, мирно… Ты брал меня — трофеем, как турист берёт на память в лавке сувенирной.
Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Вот тебе порог, а вот — дорога, нужен провожатый? Шагами поутоптанная пыль, деревья, почерневшие от гари… Вчера холодный край моей стопы бездумно по диванной кромке шарил, и мир взрывался где-то за окном закатом, а потом уже рассветом, ты брал меня — на поле боевом, — наполовину всё ещё одетой.
Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Каждый одинок, и никого, кто был бы виноватым. И никого, ты слышишь, никого? Осела пыль в молчании дорожном. Вчера ты выходил из берегов, сегодня — утекаешь осторожно, и мир дрожит от взрывов изнутри, а за окном теперь всё тихо, мирно… Ты брал меня — трофеем, как турист берёт на память в лавке сувенирной.
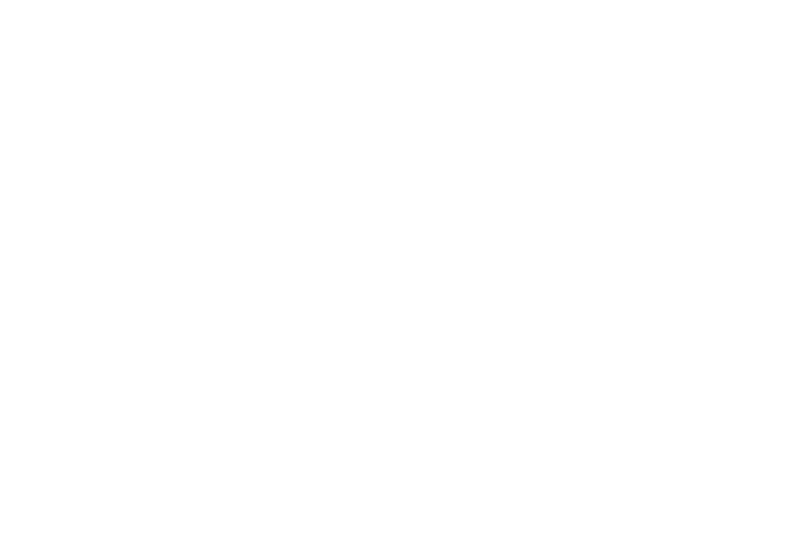
Дарёна Хэйл
Член Союза российских писателей, лауреатка Премии главы города Красноярска в области культуры, г. Красноярск
читать полностью...
Ты брал меня — как взял бы «языка» (и выдал бы потом без сожалений). Мы на войне. И нам не привыкать к комедиям, ну чтоб их, положений, к приказам, за которыми — ничто, к бессмысленной жестокости и боли. Вчера ты закатал меня в бетон и чучелом оставил в чистом поле, а мир взорвался и потом не смог собраться воедино, вот проклятый… Метафора простая, как сапог. Война, в которой никогда солдатам не победить. Себя или других — а так ли это важно, в самом деле? Воронки от окопов и круги от недосыпа, мятые шинели, и слежка, и засады, и огонь — то шквальный, то усталый перекрёстный… Вчера мы были всем, но ничего не длится бесконечно, это просто. Закон таков и, может быть, урок войны, в которой мы с тобой — солдаты…
Метафора простая, как сапог.
И, как сапог,
Она мне
Маловата.
Метафора простая, как сапог.
И, как сапог,
Она мне
Маловата.
Как молчит море
-Ты слышишь, как молчит море? В этом молчании его история, его жизнь... Давай и мы помолчим, давай разговаривать молча.
1
Они приехали в Гурзуф совсем недавно. Снимали комнатку на террасе бежевого дома, с утра купались на море, а днём бродили по городу.
Он купил соломенную шляпу, носил холщевые брюки и стал походить на местных рыбаков.
Она надевала самое простое платье, заваривала чай с мятой, гладила уличных кошек... Перед сном она играла на фортепьяно - в доме была старенькая "Одесса". Чаще всего "Баркаролу" Чайковского.
Хозяйка тогда садилась напротив и, подперев ладонью щеку, смотрела в распахнутое окно. Взгляд её, обычно цепкий и суетливый, становился мягче, мечтательнее.
Лучи уходящего солнца золотили герани на подоконнике с облупившейся краской, ситцевые зановесочки. Проникали в комнату и касались белых клавиш...
-Ты слышишь, как молчит море? В этом молчании его история, его жизнь... Давай и мы помолчим, давай разговаривать молча.
1
Они приехали в Гурзуф совсем недавно. Снимали комнатку на террасе бежевого дома, с утра купались на море, а днём бродили по городу.
Он купил соломенную шляпу, носил холщевые брюки и стал походить на местных рыбаков.
Она надевала самое простое платье, заваривала чай с мятой, гладила уличных кошек... Перед сном она играла на фортепьяно - в доме была старенькая "Одесса". Чаще всего "Баркаролу" Чайковского.
Хозяйка тогда садилась напротив и, подперев ладонью щеку, смотрела в распахнутое окно. Взгляд её, обычно цепкий и суетливый, становился мягче, мечтательнее.
Лучи уходящего солнца золотили герани на подоконнике с облупившейся краской, ситцевые зановесочки. Проникали в комнату и касались белых клавиш...
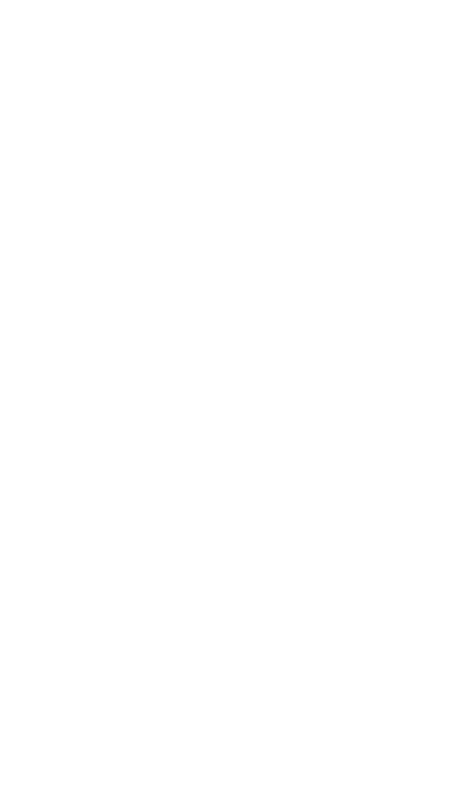
Злата Булава
Музыкальное училище им. П. И. Чайковского, г. Симферополь
О себе: Увлекаюсь литературой и музыкой, играю на фортепиано и флейте.
О себе: Увлекаюсь литературой и музыкой, играю на фортепиано и флейте.
читать полностью...
– Зоя Петровна, о чем задумались? – он входил широким шагом, снимал свою большую шляпу, шумно ставил в углу жестяное ведро и воздух сразу наполнялся запахами свежей рыбы, чабреца, прогретой солнцем соломы.
...Пело фортепиано. Спокойно и немного грустно. Это был рассказ о желтом месяце июне, о жаркой Италии и венецианских гондольерах, о русской душе композитора...
Для него это был рассказ о Черном море и оранжевых закатах.
– Зоя Петровна...
...Может быть, Зоя Петровна вспоминала то лето, когда была босоногой девчонкой Зойкой, с россыпью веснушек на лице и непослушной рыжей косичкой. Целыми днями она играла у моря, а по вечерам с берега раздавалось:
– Зорька-а-а, Зорька, иди домой!
Так девочку называл отец, и она, вся в золотых брызгах, с огоньками в карих глазах, бежала по теплой, ещё не успевшей остыть гальке.
Или вдруг загрустила о дочке, которая давно стала взрослой и уехала из дому. Помнится, она тоже играла Чайковского, это ведь для неё покупали "Одессу". Может быть, и "Баркаролу" играла...
2
Больше всего на свете он любил апельсины. Вот и сейчас – сидят они на берегу моря, а у него в руках золотой шар. Высоко над ними ещё один шар – яркое солнце.
Жарко. Над водой лениво кружат чайки, девочки и мальчики в белых панамках плещутся в прозрачной воде или собирают цветные стеклышки, обкатанные волной.
– Как хорошо, как замечательно жить! Мы ведь самые счастливые, правда? – она, прищуриваясь, смотрит вдаль, где море плавно перетекает и растворяется в васильковых оттенках неба.
Она берёт цветное стеклышко.
– Зеленый мир, зеленое небо и ты зеленый. А если я посмотрю через коричневое стеклышко, ты будешь коричневым. Вот так!
Он молчит, прикрыл глаза и как будто дремлет.
– Смотри, вон Анютка, – опять говорит она.
– Какая Анютка? – он приоткрывает один глаз, потом второй.
Только что ему снилось всё это – море и солнце, облака, салатовое платье, круглый апельсин и, кажется, даже запах лимонной травы. Когда во сне оказывается всё как наяву, первое время не понимаешь, где кончается сон... Или всё это и есть сон?
– Ну Аня, соседская дочка, мы ещё у них картошку покупаем...
Он смотрит на девочку. Две черные косички, цветочное платье.
Аня поворачивается и замечает их, улыбается, подходит ближе.
– Добрый день!
3
...Теперь они сидят втроём, Аня надела его знаменитую шляпу, за щекой мятный леденец.
– Что ты делала на берегу? – смешной, конечно, вопрос он задаёт девочке.
– Слушала море.
Они улыбаются, но Анюта вдруг становится серьёзной, берёт в руку мокрый и прохладный камень и протягивает ему:
– Послушайте...
– Это... новая игра, или...
– Тише, – девочка прикладывает палец к губам, – море очень сложно услышать!
– Дай мне, – просит она, и Аня кладёт камень на её ладонь.
Минуту все молчат. Потом она широко улыбается, быстро говорит:
– Меня море позвало купаться!
Глаза у неё сейчас голубые-голубые, без малейшего серого оттенка. Голос звонкий, и вся она одновременно и веселая, и серьёзная.
– Ты слышишь, как молчит море? В этом молчании его история, его жизнь... Давай и мы помолчим, давай разговаривать молча.
...Море тихо покачивается, кружат чайки, горит апельсиновое солнце...
И тогда он слышит. Слышит, как, вздыхая, молчит море. Слышит его голос, его песню... А ещё вдруг услышал, как хрустят в кармане два билета...
"Хорошо, – думает он, – что я успел услышать как молчит море...
...Пело фортепиано. Спокойно и немного грустно. Это был рассказ о желтом месяце июне, о жаркой Италии и венецианских гондольерах, о русской душе композитора...
Для него это был рассказ о Черном море и оранжевых закатах.
– Зоя Петровна...
...Может быть, Зоя Петровна вспоминала то лето, когда была босоногой девчонкой Зойкой, с россыпью веснушек на лице и непослушной рыжей косичкой. Целыми днями она играла у моря, а по вечерам с берега раздавалось:
– Зорька-а-а, Зорька, иди домой!
Так девочку называл отец, и она, вся в золотых брызгах, с огоньками в карих глазах, бежала по теплой, ещё не успевшей остыть гальке.
Или вдруг загрустила о дочке, которая давно стала взрослой и уехала из дому. Помнится, она тоже играла Чайковского, это ведь для неё покупали "Одессу". Может быть, и "Баркаролу" играла...
2
Больше всего на свете он любил апельсины. Вот и сейчас – сидят они на берегу моря, а у него в руках золотой шар. Высоко над ними ещё один шар – яркое солнце.
Жарко. Над водой лениво кружат чайки, девочки и мальчики в белых панамках плещутся в прозрачной воде или собирают цветные стеклышки, обкатанные волной.
– Как хорошо, как замечательно жить! Мы ведь самые счастливые, правда? – она, прищуриваясь, смотрит вдаль, где море плавно перетекает и растворяется в васильковых оттенках неба.
Она берёт цветное стеклышко.
– Зеленый мир, зеленое небо и ты зеленый. А если я посмотрю через коричневое стеклышко, ты будешь коричневым. Вот так!
Он молчит, прикрыл глаза и как будто дремлет.
– Смотри, вон Анютка, – опять говорит она.
– Какая Анютка? – он приоткрывает один глаз, потом второй.
Только что ему снилось всё это – море и солнце, облака, салатовое платье, круглый апельсин и, кажется, даже запах лимонной травы. Когда во сне оказывается всё как наяву, первое время не понимаешь, где кончается сон... Или всё это и есть сон?
– Ну Аня, соседская дочка, мы ещё у них картошку покупаем...
Он смотрит на девочку. Две черные косички, цветочное платье.
Аня поворачивается и замечает их, улыбается, подходит ближе.
– Добрый день!
3
...Теперь они сидят втроём, Аня надела его знаменитую шляпу, за щекой мятный леденец.
– Что ты делала на берегу? – смешной, конечно, вопрос он задаёт девочке.
– Слушала море.
Они улыбаются, но Анюта вдруг становится серьёзной, берёт в руку мокрый и прохладный камень и протягивает ему:
– Послушайте...
– Это... новая игра, или...
– Тише, – девочка прикладывает палец к губам, – море очень сложно услышать!
– Дай мне, – просит она, и Аня кладёт камень на её ладонь.
Минуту все молчат. Потом она широко улыбается, быстро говорит:
– Меня море позвало купаться!
Глаза у неё сейчас голубые-голубые, без малейшего серого оттенка. Голос звонкий, и вся она одновременно и веселая, и серьёзная.
– Ты слышишь, как молчит море? В этом молчании его история, его жизнь... Давай и мы помолчим, давай разговаривать молча.
...Море тихо покачивается, кружат чайки, горит апельсиновое солнце...
И тогда он слышит. Слышит, как, вздыхая, молчит море. Слышит его голос, его песню... А ещё вдруг услышал, как хрустят в кармане два билета...
"Хорошо, – думает он, – что я успел услышать как молчит море...
Голова
Наш друг-художник принес нам голову. Она лежала в пакете у шкафа. Немного лукаво косила глазом, наблюдая за происходящим в комнате. Это была пластиковая голова, предназначенная для срисовывания. Даже не гипсовая, а банальная розово-пластиковая голова манекена. Такие демонстрируют вязаные шапочки и изящные шляпки в витринах. Друг принес ее нам, отбывая в далекие края, чтобы мы передали это несуразное чудо его возлюбленной. Голова должна была служить моделью для рисования в его, друга, отсутствие.
Ночь зажгла глаза фонарей за окном, часы сонно тикали, в зеркале уже начали мелькать отражения снов. А голова все глядела из пакета. Мы решили спрятать ее в шкаф. Мало ли.
Наш друг-художник принес нам голову. Она лежала в пакете у шкафа. Немного лукаво косила глазом, наблюдая за происходящим в комнате. Это была пластиковая голова, предназначенная для срисовывания. Даже не гипсовая, а банальная розово-пластиковая голова манекена. Такие демонстрируют вязаные шапочки и изящные шляпки в витринах. Друг принес ее нам, отбывая в далекие края, чтобы мы передали это несуразное чудо его возлюбленной. Голова должна была служить моделью для рисования в его, друга, отсутствие.
Ночь зажгла глаза фонарей за окном, часы сонно тикали, в зеркале уже начали мелькать отражения снов. А голова все глядела из пакета. Мы решили спрятать ее в шкаф. Мало ли.
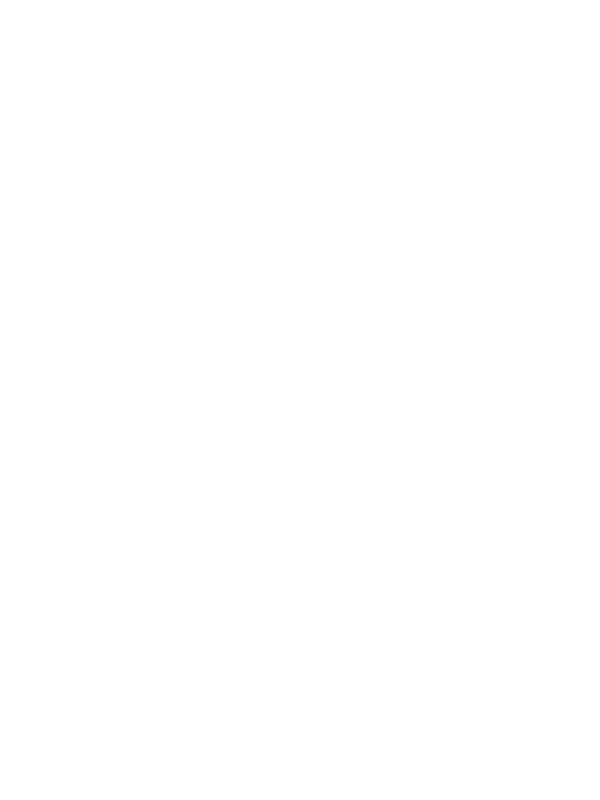
Анастасия Протасовицкая
О себе: Пишу. Поэзию и прозу. Рисую. Вдохновляюсь природой и постиндустриальными пейзажами.
читать полностью...
Дом уснул, убаюканный грохотом проезжающих мимо машин. Посреди ночи, в самый беззвездный час, голова начала ворочаться и скрестись в шкафу. У нее выросли ножки и она хотела выбраться. Скрипнув, приоткрылась дверца. Из-за нее показалась паучья лапка. Голова огляделась и, убедившись, что все спят, быстро перебирая ножками, побежала к входной двери. Поскребшись в глухой дерматин, увидев, что тут выхода нет, она устремилась к окну и выскочила в форточку. Ночная прохлада росой оседала на пластиковой коже, слепые глаза с надеждой распахнулись навстречу дороге. Мелькая лапками, голова перебежала пустынный переход, прошмыгнула по городской набережной и, взлетев на эстакаду, направилась к мосту на тот берег. Тут стало неудобно – приходилось лавировать между проносящимися мимо автомобилями, которые визжали тормозами и готовы были соскользнуть в черные воды пролива. Но голова не растерялась… – останавливаться на мосту было запрещено - и запрыгнула на ступеньку проезжающего автобуса. Ловкие лапки помогли вскарабкаться к открытому окошку, куда пластиковый колобок и юркнул. Пробегая по спящим пассажирам, беглец будил их, салон оглашался ворчанием и испуганными вскриками. Пожилая дама, укутанная в пледы, принялась бить пришельца скрученной в трубочку газетой «Вечерняя Керчь» с криками «Пошла вон!» Молодой парень протирал глаза, бормоча «Еханые лехины грибы… Шоб я еще раз….» Дедулька на переднем сидении философски заметил: «Всякое живое существо, оно доброго отношения требует» .
Водитель обернулся, напрягая бритую мускулистую шею, и гаркнул:
«Где билет? Ты за проезд платил?»
«Я великий художник!» - пропищала голова.
«Да мне похрен, хто ты! Или плати, или выметайся!» - водитель косил из-под кепочки выкатившимся глазом. Автобус завизжал тормозами.
Нельзя ведь, нельзя на мосту останавливаться!
Из салона раздались панические возгласы.
В заднее стекло, будто ночные мотыльки, бились фары спотыкающихся о внезапную преграду машин. Они возмущенно сигналили матом, объезжая «Эталон» и уносились по мосту вдаль.
Тут пузатый мужик в растянутом свитере тяжело поднялся со своего места, схватил мечущуюся голову и вышвырнул её в окно. Описав бледную дугу через парапет, голова с приглушенным всплеском упала в воду.
- Художник, мля… - отряхивая ладони, пробормотал мужик и грузно опустился на свое место.
Автобус продолжал путь на другой берег, а в ночном проливе шевелила лапками пластиковая голова, стремившаяся к берегу. Голова, так хотевшая быть если не художником, то хотя бы его моделью.
Водитель обернулся, напрягая бритую мускулистую шею, и гаркнул:
«Где билет? Ты за проезд платил?»
«Я великий художник!» - пропищала голова.
«Да мне похрен, хто ты! Или плати, или выметайся!» - водитель косил из-под кепочки выкатившимся глазом. Автобус завизжал тормозами.
Нельзя ведь, нельзя на мосту останавливаться!
Из салона раздались панические возгласы.
В заднее стекло, будто ночные мотыльки, бились фары спотыкающихся о внезапную преграду машин. Они возмущенно сигналили матом, объезжая «Эталон» и уносились по мосту вдаль.
Тут пузатый мужик в растянутом свитере тяжело поднялся со своего места, схватил мечущуюся голову и вышвырнул её в окно. Описав бледную дугу через парапет, голова с приглушенным всплеском упала в воду.
- Художник, мля… - отряхивая ладони, пробормотал мужик и грузно опустился на свое место.
Автобус продолжал путь на другой берег, а в ночном проливе шевелила лапками пластиковая голова, стремившаяся к берегу. Голова, так хотевшая быть если не художником, то хотя бы его моделью.
Литературная критика
Тиха волна или новые аллеи старого парка
Формула жизни: предчувствия и предречения
Эта книга с дружеским автографом Владимира Коробова не застаивается на полке. Время от времени она оказывается в руках, доверительно раскрывает свои страницы, напоминая бабочку, может быть, именно ту, которую когда-то спас автор.
Факсимиле на завёрнутом крае суперобложки раскрывает образ названия:
Люблю бродить в ночном саду,
Саду метаморфоз,
Где отражений свет в пруду,
Как лилия, пророс,
Где тишина, где нет тропы
И в небе, после гроз,
До боли колются шипы звёзд.
(«Люблю бродить в ночном саду» – «СМ», стр. 13)
Формула жизни: предчувствия и предречения
Эта книга с дружеским автографом Владимира Коробова не застаивается на полке. Время от времени она оказывается в руках, доверительно раскрывает свои страницы, напоминая бабочку, может быть, именно ту, которую когда-то спас автор.
Факсимиле на завёрнутом крае суперобложки раскрывает образ названия:
Люблю бродить в ночном саду,
Саду метаморфоз,
Где отражений свет в пруду,
Как лилия, пророс,
Где тишина, где нет тропы
И в небе, после гроз,
До боли колются шипы звёзд.
(«Люблю бродить в ночном саду» – «СМ», стр. 13)
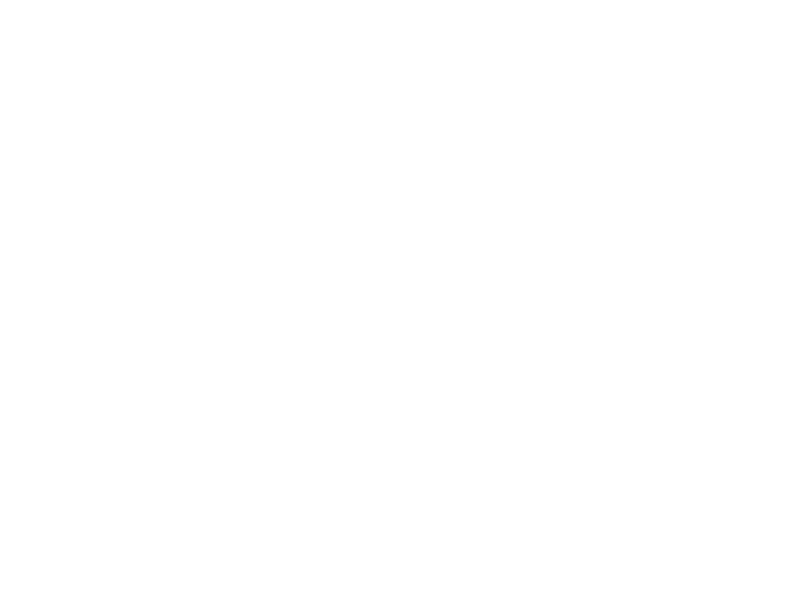
Дмитрий Пэн
член Союза российских писателей, профессиональный критик, историк и теоретик русской литературы
читать полностью...
Метрические перебои и неожиданный спондей в конце последней строки усиливают образ укола о звёздные шипы. Лирический герой, бродящий в ночном саду, словно превращается в когда-то спасённую им бабочку (в чьей жизни не повторялся этот бальмонтовский, вечный сюжет?) Хочется верить, что и нежная, хрупкая душа человеческая спасена, а не наколота на звездную булавку всемирной энтомологической коллекции лирического пантеона Вселенной. Оставленная в декабрьской 2009 года Ялте дружеская надпись хранит тепло руки. Владимира Коробова не стало через несколько лет в Ялте. Книга с ялтинских берегов доверительно раскрывает свои страницы.
Лирический герой – в саду метаморфоз, бродит у пруда с лилией под звёздами в ночном одиночестве. Овидиевы песни на темы античных мифов подарили нам сокровенную тайну превращений. Секрет тайны в волшебной силе любви, преобразующей человека. Возможно, биохимики и биофизики будущего откроют нам таинственный гормон, формулу чудодейственного вещества, а может, не вещества даже, а сочетания энергий, сплетения волн – катализатора и ключа, кудесника и путеводителя превращений, но пока что эта тайна, этот ключ в руках у муз. Вот и превратил автор грустной, элегической книги душу своего лирического героя в бабочку. Вначале восхитился её крылышками, затем спас в далёком детстве и сохранил в своей памяти этот чистый и благородный поступок ребёнка. Так и оказался в волшебном кругу певцов и ловцов славянской души-бабочки от Афанасия Фета, Константина Бальмонта до Владимира Набокова и поэтов наших дней. В поэтическом соревновании бабочки и птицы, голубя, ласточки, птицы-души побеждает у Владимира Коробова бабочка. В таком же соревновании колбочки и ласточки у другого нашего современника победит ласточка. Современник продолжает свою творческую жизнь, а вот Владимира Борисовича Коробова не стало (Тобольск. 24 апреля 1953 – Ялта. 26 ноября 2011). Что было в творчестве автора книги предопределяющим фатум биографических дат истории? Окружение поэта, условия жизни, история тех стран, в которых жил поэт, самогипноз собственных словесных формул? Всё это уяснится ходом истории, а он в литературе неспешен. Архивариусы, музееведы, собиратели и хранители, издатели и исследователи литературных наследий мерят время веками, ведут отсчёт десятилетиями. Впрочем, вечность, тысячелетье – привычно уживаются на поэтическом хронометре "Сада метаморфоз" рядом с секундомером мгновений бытия.
Единоборства с себе подобными настоящие поэты не знают. Настоящим поэтам достаточно драматизма их внутренних противоречий, ведь именно эта самодостаточность и делает их подлинными поэтами-лириками, если верить завету Валерия Брюсова. Для Владимира Коробова превращение в бабочку стало овидиевой метаморфозой собственного «Я», сюжетом жизни и судьбы лирического героя.
Грустная, элегическая книга начинается и завершается поэтическими образами бабочки. От страницы к странице через всю книгу проходит мотив полёта бабочки, образ бабочки последний раз мелькнет в предпоследнем стихотворении:
Капустница, потрёпанная ветром,
Присела на цветок передохнуть,
Посаженный стареющим поэтом,
И он подумал: ей не протянуть,
И двух-трёх дней – так крылья ослабели…
(«Капустница, потрёпанная ветром…» – «СМ», стр. 121)
А на последней странице лирический герой, не найдя согласья с уходящим веком, признается:
В веке проклятом, двадцатом
Я хочу ещё пожить
И на мостике горбатом
Постоять и покурить…
(«В веке проклятом, двадцатом…» – «СМ», 122)
С табачным дымком у лица, на горбатом мостике, поэт вновь напомнит бабочку, эфемерное существо, которое вот присело на цветок и дышит, трепещет крылышками, тем и мила, тем и ценна бабочка вселенной, единственностью, мимолётностью своего хрупкого существа!
Лирический сюжет мимолётности сокровенного бытия превращений не мог не уловить автор предисловия Юрий Кублановский. Потому и назвал своё предисловие «Ускользающее бытие». Юрий Кублановский увидел в книге настоящее явление настоящей поэзии, а в авторе - ловящего, удерживающего ускользающее, уходящее бытие больного ребёнка из стихотворения самого Владимира Коробова «Больничный сад». Название предисловия стало пророческим, а книга – прощальной. Но пророчеству предшествовало авторское предвидение поэта краткости и мимолётности будущего, почти мгновенности («ещё пожить», «постоять», «покурить»). Автор словно подхватывает дерзкий крик поминаемого им на странице с несчастливой суеверной нумерацией «113» Фофанова, но подхватывает почти шёпотом, почти безмолвным дыханием. Василий Андреевич Жуковский начал в русской лирике тихую элегическую песнь. Один за другим подхватывают её из века в век поэты. И к этой эстафете голосов русской классики добавляется новый. До чего жаль, что формула жизни, выведенная и применённая к самому себе автором «Сада метаморфоз», оказалась так лапидарна: 1953–2011! Хоть и несла в себе счастливую народно-славянскую сказку воскресенья и перевоплощенья души-бабочки.
Экзистенция прогулки: Танец бабочки среди зеркал
Авторский текст после предисловия начинается пастернаковскими аккордами «Пейзажа». От этого «Пейзажа» и поведут тропинки в сад… Текст сплошной. Формально книга не имеет разделов, её внутренняя содержательная композиция подчинена мотиву блуждания, прогулки в саду как метафоре жизни. На шестом шагу-стихотворении внезапно разразится гроза, и лирический герой окажется в детском воспоминании. В парикмахерской смотрит он на туманящееся зеркало.
И ножницы,
Мелькая, как стрижи,
Дробятся в зеркале, и видеть это странно.
(«В парикмахерской» – «СМ», с.16)
Сад и зеркало… Композиционное кольцо рондо изобразительных планов делается внутри книги аллюзией из фильма Андрея Тарковского. Такова читательская фантазия, ведь кино – одно из любимейших искусств читателя, и такое рондо делает и сам автор, уводя нас к пастернаковскому спектральному анализу, но не среды, света и веток сада, бьющихся в окно извне, а личности лирического «Я» героя. Внутри композиционного кольца – развёрнутая философская увертюра. Вот птицы утомились небесной высотою и обрели приют в кроне дерева под целительно мерцающей звездой. Вот внезапно и больно колют, пронзают душу героя острия звёзд. А вот живая бабочка распластала крылья на кусте самшита. Почти квадратный лист книги становится похож на коробку с когда-то живым существом из энтомологической коллекции. Ах! Не только Владимир Владимирович Маяковский мог душу вынуть из себя и растоптать, «чтоб большая», поднимая её, окровавленную, как знамя! Не только Владимир Владимирович Набоков, коллекционируя бабочек, душу человеческую, свою, конечно, как бабочку на булавке всемирному читателю российской художественной словесности доверительно протянул в ладонях. И во внутреннем строе книги герой из летнего денька в тумане тополиного пуха вдруг заходится в немоте внезапного вопроса о том, что этот «летний снег» может растаять. Контрасты среды, субстанций, состояний шоковые! И вслед за ними так понятно, что на следующей странице нагая девочка с летающей над ней бабочкой вдруг оказывается бронзовой… Как не вспомнить здесь фетовскую «Диану»! Вопрос вопросов эстетики забытого девятнадцатого века! Искусство и действительность. Как проблемно, порой драматично их соотношение. В зареве разражающейся на следующей странице «Грозы» с эпиграфом из Аполлона Майкова является грознейший из античных богов, брат Дианы –Аполлон. Он является не стихотворным образом, но самим эпиграфом, где скромно спрятан инициалом «А». А в стихотворной строке, заканчивающей текст под эпиграфом, – неразъёмные объятия героя и безымянной героини. Объятия посреди земли, посреди грозы. Объятия вне времени и пространства, посреди самой Вселенной. И новый контраст следующего текста. Зеркальная книжка в книге захлопывается «В парикмахерской»… Языческое буйство метафор оживающего пейзажа в неразрешимости эстетического вопроса вопросов завершается в лаборатории первого из искусств, предлагаемых суровым обществом детству – в салоне тупейной художницы, где, оказывается, металлические ножницы способны летать, как стрижи.
И начинается новое сказание. В открывающем это сказанье стихотворении автор соединит длань незримую, роковую, из теософского поэтического трактата христианина Фёдора Ивановича Тютчева и Нарцисса из переложенных на классические стихи великим язычником Публием Овидием Назоном античных мифов («Фонтан отвергнут высотой…» – «СШ», cтр. 19). Мы не увидим здесь отражения Нарцисса, само усилие любви разглядеть это отражение станет сюжетом следующего ряда текстов из книги прогулок-блужданий по саду метаморфоз, а захлопнется эта книга в книге тоже отражением под бездной мирозданья, словно в центрифуге из призм вращающемся «Зеркале» («СМ», cтр. 54 – 55).
Полёт мотылька продолжит сюжет прогулок-блужданий («Заденет бабочка крылом…» – «СМ», стр.56), чтобы остановиться и встрепенуться в образе возлюбленной («Ты сбросишь платье, словно кокон…» – «СМ», стр. 80).
Мир языческих эфемерид исчезнет в реальной человеческой телесности, увы, такой бренной, как крылья бабочек в пламени свечи. Далее последует драматическая череда стихотворений между полюсами двух жестов – от назревающего и застывающего жеста наложения креста сомневающимся в неверии и вере памятником («Памятник у церкви Большого Вознесения» – «СМ» – стр. 85) до перебарывающего попытку суицида невыразимого жеста лирического героя («За окном – по лужам вижу…» – «СМ», стр. 115).
Смятённое и спутанное сознание, в котором рождается спасительная строка пометки на листе; взгляд на пройденные пути; визит на кладбище; грустная элегия о купленной новогодней ёлке, на которую не прийти с погоста покоящимся там друзьям; саркастические раздумья над посмертной славой и, наконец, перед самым финалом образ бабочки-капустницы, готовящейся к последнему полёту; а затем - желание жить. Всё, книга «Сад метаморфоз» завершена («СМ», стр. 116 – 122).
Каждая часть этой маленькой балетно-симфонической кинопрогулки по саду метаморфоз достойна отдельного анализа. Думается, со временем интерпретаторы из содружества искусств прочтут книгу Владимира Коробова по-настоящему: в музыке и танце, кинематографических снах и картинах, кто знает, может, и в пластике садово-парковых искусств.
Пути лирики: «Славянка тихая, сколь ток приятен твой»
Ученик Анатолия Жигулина и Владимира Соколова, Владимир Коробов по творческому кругу, осознанному выбору и поэтическим декларациям принадлежит к замыкающему поколению «тихих лириков»:
Вот опять она летает
Над беседкою в саду,
Домик сломанный латает,
Воду черпая в пруду.
И пока шумят народы,
Грозно спорят кто про что, -
С чувством счастья и свободы
Лепит ласточка гнездо.
(«Ласточка» – «СМ», стр. 75)
Но в отличие от остальных тихих лириков, чьи голоса принципиально одиноки во вселенной, герой Владимира Коробова ощущает маргинальность представителей своего поколения в целом, которые «кожей впитали эпохи пороки» и «вскочили случайно в трамвай перестройки» («Моё поколение» - «СМ», стр. 40). При этом противоборство конфликта с миром не характерно лирическому герою поэта, а его поэтическая тишина не от фронды затишья перед бурей и сосредоточения, собирающего внутренние силы молчания, а от школы, студии классической русской лирики девятнадцатого века, бережно воспринятой веком двадцатым традиции.
Прогулка по саду метаморфоз, блуждания мелькающей над тропинками бабочки лишь внешне – среди деревьев, но внутренне – среди образцов русской классики. Тень Василия Андреевича Жуковского сопровождает незримо читателя. Где-то рядом Константин Батюшков в своих печалях и скитаниях. Незримо – то пожалеет бабочку Константин Дмитриевич Бальмонт, то благосклонно взглянет обходящий свои владения Максимилиан Александрович Волошин, то пристально, почти оценивающе – Иван Алексеевич Бунин. Где-то повстречается герою лермонтовская ветка Палестины, а где-то ветка постучит в окно, ветка сирени Пастернака – всё это не читательские вольные ассоциации, а осознанный путь читаемого автора, осмысленно придерживающегося традиции, выверяющего не столько руку, сколько движения души и верность чувств, воспитывающего себя в исторически наследуемой культуре и традиции.
Составитель поэтических антологий, Владимир Коробов, не просто наследует традицию, а восполняет, перерабатывает творческим умом наследника. Поэт живёт в пространстве, которое культурно по самой своей природе – всеобщее пространство культуры нации. Бабочка в «Cаду метаморфоз» Владимира Коробова изначально наделена славянской, именно славянской душой. Таврида, где автор «Сада метаморфоз» живёт почти всё своё детство и всю юность, – это край, где, как волны о берег, разбились мечты Константина Батюшкова, где море шумит, что ещё Константин Паустовский заметил, гомеровым гекзаметром. В поэтическом мире Владимира Коробова антологическая лирика такой близкой для крымчанина античной традиции перешла в живую антологию русской классической лирики. И здесь можно говорить о феномене поэзии неоантологий. Новая антология, неоантология зримые материально конкретные статуи мраморов и гипсов в парках заменяет незримыми поэтическими образами русской классики, культуры как таковой. Не статуи, а стихи и образы классиков сопровождают лирического героя, дают отзвуки в переливах мелодий его поэтической лиры. Конечно, феномен этот воспитывает русская культура и русская поэтическая школа в целом, а институт и сообщество профессионалов стиха в конкретике и частностях непосредственного общения. Однако зарождается этот феномен для Владимира Коробова самой его судьбой. В раннем детстве переезжает будущий поэт именно в Крым из далёкого континентального Тобольска, а затем получает счастливую возможность приобщиться к взыскующему сосредоточенной кропотливости музейному труду, да не где-нибудь, а в Доме-музее А. П. Чехова.
Владимир Коробов не типичный тихий лирик из маргиналий, к которым даже рафинированный интеллектуал, санкт-петербургский певец ласточки-строительницы городов, Александр Кушнер, себя причислял. Владимир Коробов незаметно для поэтических аудиторий самой судьбой просто жить и просто чувствовать, просто быть в культуре дал своими стихами новую поросль тихой лирики. Эта поросль – самостоятельна. Она естественно выросла, раскинулась, протянулась перспективами новых аллей на окраинах старого парка поэзии. Эти аллеи и составили «Сад метаморфоз».
Неоклассика, лирика новых антологий, классических антологий и альманахов нашего тысячелетия – это, конечно, квазитерминология. Но важно то, что реально в своей историчности само явление новой волны тихой лирики. Этот феномен порождается не оттепелью, а гласностью. В следовании и осмыслении классики новейшая тихая лирика счастливо избежала искусов запредельной изощрённости александрийской поэзии, изысков и игр центонного стиха, не маргинализировалась, как предшествующие тихие лирики, а всем поколением успела вскочить в трамвай перестройки. Творчество поэта новейшей тихой лирики как последователя и восприемника классической традиции определяют четыре особенности. Во-первых, особый жанр книги как славянской прогулки, во-вторых, сплетение древнегреческого и древнеславянского античных мифов с христианской этикой жизни, в-третьих, замена античного мрамора и гипса оригинальным поэтическим шедевром русской поэтической классики, в-четвёртых, особый внутренний драматизм героя. Этот драматизм определяют экзистенциальные переживания своей судьбы и своего времени от расслабленных созерцательных медитаций до пароксизмов суицидального выбора. Содержание славянских прогулок в садах метаморфоз – философская судьба классического русского славянина. Появляется это содержание с обретением славянами собственно русского экстерриториального пространства, но осмысляется в конкретике каждой отдельной культурно-территориальной судьбы. Пример такой судьбы и даёт поэзия Владимира Коробова. «Славянка тихая, сколь ток приятен твой…» – как не вспомнить здесь и сейчас первую строчку знаменитой элегии Василия Андреевича Жуковского «Славянка»…
Лирический дуэт: «На последней минуте заката…»
Рядом с последней прижизненной книгой Владимира Коробова на полке стоит одностильное по своему оформлению издание книги Людмилы Абаевой (14.9.1951–02.11.2012), книги, увы, тоже последней. На титуле нет автографа. Книгу привезла в осенний Коктебель Светлана Василенко. Я вспомнил холодные, рассыпающиеся у берега осенние коктебельские волны тех, теперь уже давних, дней 2014 года. Вспомнил, когда сейчас снял с полки и эту книгу, а рядом с ней раскрыл и перелистал «Сад метаморфоз» Владимира Коробова. Со страницы глянулась, сама вошла в сердце, задела какую-то таинственную струнку души строфа «Романса»:
В зимних сумерках смутного дня,
На последней минуте заката,
Может, море узнает меня,
Предвечерней печалью объято,
И, прибрежный обдав тамариск,
Вдруг волною о берег ударит
И букет ослепительных брызг
На прощанье подарит.
(«Романс» – «СМ», стр. 58)
Нет, стихи не коктебельские, по духу, по реалиям здесь узнаётся южнобережное, скорее всего, именно ялтинское очарование Крыма, а не суровая красота юго-востока. Вспомнились вечер первой российской осени Крыма и грустная россыпь альбомных томиков в мягкой обложке. Молчанье гостей Светланы Василенко, которая привезла в Коктебель литературные премии, премиальные дипломы, остеклённые и взятые в рамки, книгу Людмилы Абаевой и печальное известие о сиротстве лежащей перед гостями горки-россыпи книг. Вера Фейгина, исполнительница многих романсов, взяла первый экземпляр. В чёрном вечернем платье, с чёрным камнем в перстне серебряной финифти Вера Фейгина могла бы сойти за пастора, если бы не оставила широкополую чёрную шляпу, в которой была днём. В тот бархатный коктебельский сезон волны были особенно высоки, бились о берег с особой силой. Идти в них было опасно. Но некоторые особо отважные романтики рисковали заплывать в самую даль и даже купаться у берега. В гостиничном номере было уютно. Коктебельский коньяк и любимое вождём всех народов «Кинзмараули», стихи и неторопливые тихие литературные разговоры сменили непроизвольную минуту молчания. Где-то вскипало и билось о берег море, рокотало и бугрилось бегущими от горизонта волнами, а в душах рождалась тихая волна лирики, и рождалась она в Крыму. Крымская волна тихой лирики.
Не раз возвращаюсь я памятью в тот коктебельский вечер осени 2014 года, в ту минуту молчания. Ни разу не встречались авторы этих двух книг на моём пути, но вот так и видится читательскому взгляду на умозрительном экране кинематографической интерпретации: тени двух поэтов встречаются на берегу, возникая одна из волн, а другая – из сплетения крон на тропе. Бредут эти тени вдоль берега и превращаются в разлетающихся бабочек и птиц, растворяются в ночной музыке рокочущего моря и фиолетовой синеве меркнущего неба «в … сумерках смутного дня, на последней минуте заката».
На последней минуте заката, на последних шагах лирической совместной прогулки издали свои книги два поэта. Владимир Коробов и Людмила Абаева были супругами. Вместе учились в семинаре Анатолия Жигулина, публиковались в одних журналах, подготовили одну антологию «Прекрасны вы, брега Тавриды: Крым в русской поэзии» (М., 2000), были лауреатами одной Международной Артийской премии. Думается, исследователи их творчества смогут найти в стихах двух поэтов диалог, просто сплетение голосов и тем. С предельной ясностью и чистотой голоса поэтов прозвучали, увы, на последней минуте заката их творчества, стали последними прижизненными книгами.
Христианские мотивы лирики Людмилы Абаевой многим сильнее языческих. Философско-эстетические темы и проблемы, психологический драматизм отступают у поэтессы перед общей для обоих поэтов ностальгией по детству, любованием природой. У Людмилы Абаевой усиливается романтически-трансцендентная тональность, проявляющаяся в сплетении мотивов сна и птицы, в образах таинственного ночного гостя и горящей волчьими глазами тайги, даже в решении традиционно женской темы одиночества. Гамлетовский вопрос вопросов, обретающий у Владимира Коробова суицидальный драматизм, сменяется сестринскими объятиями с Офелией.
Лирическая героиня Людмилы Абаевой мыслит себя, свою жизнь только вдвоём с лирическим героем, даже мир у неё и само время в этом мире – всё на двоих:
О, Господи, осень!
Погожий денёк для двоих,
Бредущих одной бесконечной конечной дорогой…
(«О, Господи, осень!» - «СИП», стр. 39)
Даже тот, который сердце ранил
Безутешное,
С радостью проснётся утром ранним
Безмятежною…
(«Что ты плачешь, косы расплетая» – «СИП», стр. 45)
Спутник по прогулкам в саду метаморфоз, тот, с кем делила свои сны и своих птиц, умолк. Смолкла песня и поэтессы. Жизненный путь двух поэтов завершён, но путь их творчества, путь двух душ, воспаряющих над берегами Тавриды, открыт для всех читателей оставленных ими стихов. Сколько бы ни было волн русской лирики, была среди них и эта тихая крымская волна, романтическая волна поэтического дуэта Владимира Коробова и Людмилы Абаевой.
Лирический герой – в саду метаморфоз, бродит у пруда с лилией под звёздами в ночном одиночестве. Овидиевы песни на темы античных мифов подарили нам сокровенную тайну превращений. Секрет тайны в волшебной силе любви, преобразующей человека. Возможно, биохимики и биофизики будущего откроют нам таинственный гормон, формулу чудодейственного вещества, а может, не вещества даже, а сочетания энергий, сплетения волн – катализатора и ключа, кудесника и путеводителя превращений, но пока что эта тайна, этот ключ в руках у муз. Вот и превратил автор грустной, элегической книги душу своего лирического героя в бабочку. Вначале восхитился её крылышками, затем спас в далёком детстве и сохранил в своей памяти этот чистый и благородный поступок ребёнка. Так и оказался в волшебном кругу певцов и ловцов славянской души-бабочки от Афанасия Фета, Константина Бальмонта до Владимира Набокова и поэтов наших дней. В поэтическом соревновании бабочки и птицы, голубя, ласточки, птицы-души побеждает у Владимира Коробова бабочка. В таком же соревновании колбочки и ласточки у другого нашего современника победит ласточка. Современник продолжает свою творческую жизнь, а вот Владимира Борисовича Коробова не стало (Тобольск. 24 апреля 1953 – Ялта. 26 ноября 2011). Что было в творчестве автора книги предопределяющим фатум биографических дат истории? Окружение поэта, условия жизни, история тех стран, в которых жил поэт, самогипноз собственных словесных формул? Всё это уяснится ходом истории, а он в литературе неспешен. Архивариусы, музееведы, собиратели и хранители, издатели и исследователи литературных наследий мерят время веками, ведут отсчёт десятилетиями. Впрочем, вечность, тысячелетье – привычно уживаются на поэтическом хронометре "Сада метаморфоз" рядом с секундомером мгновений бытия.
Единоборства с себе подобными настоящие поэты не знают. Настоящим поэтам достаточно драматизма их внутренних противоречий, ведь именно эта самодостаточность и делает их подлинными поэтами-лириками, если верить завету Валерия Брюсова. Для Владимира Коробова превращение в бабочку стало овидиевой метаморфозой собственного «Я», сюжетом жизни и судьбы лирического героя.
Грустная, элегическая книга начинается и завершается поэтическими образами бабочки. От страницы к странице через всю книгу проходит мотив полёта бабочки, образ бабочки последний раз мелькнет в предпоследнем стихотворении:
Капустница, потрёпанная ветром,
Присела на цветок передохнуть,
Посаженный стареющим поэтом,
И он подумал: ей не протянуть,
И двух-трёх дней – так крылья ослабели…
(«Капустница, потрёпанная ветром…» – «СМ», стр. 121)
А на последней странице лирический герой, не найдя согласья с уходящим веком, признается:
В веке проклятом, двадцатом
Я хочу ещё пожить
И на мостике горбатом
Постоять и покурить…
(«В веке проклятом, двадцатом…» – «СМ», 122)
С табачным дымком у лица, на горбатом мостике, поэт вновь напомнит бабочку, эфемерное существо, которое вот присело на цветок и дышит, трепещет крылышками, тем и мила, тем и ценна бабочка вселенной, единственностью, мимолётностью своего хрупкого существа!
Лирический сюжет мимолётности сокровенного бытия превращений не мог не уловить автор предисловия Юрий Кублановский. Потому и назвал своё предисловие «Ускользающее бытие». Юрий Кублановский увидел в книге настоящее явление настоящей поэзии, а в авторе - ловящего, удерживающего ускользающее, уходящее бытие больного ребёнка из стихотворения самого Владимира Коробова «Больничный сад». Название предисловия стало пророческим, а книга – прощальной. Но пророчеству предшествовало авторское предвидение поэта краткости и мимолётности будущего, почти мгновенности («ещё пожить», «постоять», «покурить»). Автор словно подхватывает дерзкий крик поминаемого им на странице с несчастливой суеверной нумерацией «113» Фофанова, но подхватывает почти шёпотом, почти безмолвным дыханием. Василий Андреевич Жуковский начал в русской лирике тихую элегическую песнь. Один за другим подхватывают её из века в век поэты. И к этой эстафете голосов русской классики добавляется новый. До чего жаль, что формула жизни, выведенная и применённая к самому себе автором «Сада метаморфоз», оказалась так лапидарна: 1953–2011! Хоть и несла в себе счастливую народно-славянскую сказку воскресенья и перевоплощенья души-бабочки.
Экзистенция прогулки: Танец бабочки среди зеркал
Авторский текст после предисловия начинается пастернаковскими аккордами «Пейзажа». От этого «Пейзажа» и поведут тропинки в сад… Текст сплошной. Формально книга не имеет разделов, её внутренняя содержательная композиция подчинена мотиву блуждания, прогулки в саду как метафоре жизни. На шестом шагу-стихотворении внезапно разразится гроза, и лирический герой окажется в детском воспоминании. В парикмахерской смотрит он на туманящееся зеркало.
И ножницы,
Мелькая, как стрижи,
Дробятся в зеркале, и видеть это странно.
(«В парикмахерской» – «СМ», с.16)
Сад и зеркало… Композиционное кольцо рондо изобразительных планов делается внутри книги аллюзией из фильма Андрея Тарковского. Такова читательская фантазия, ведь кино – одно из любимейших искусств читателя, и такое рондо делает и сам автор, уводя нас к пастернаковскому спектральному анализу, но не среды, света и веток сада, бьющихся в окно извне, а личности лирического «Я» героя. Внутри композиционного кольца – развёрнутая философская увертюра. Вот птицы утомились небесной высотою и обрели приют в кроне дерева под целительно мерцающей звездой. Вот внезапно и больно колют, пронзают душу героя острия звёзд. А вот живая бабочка распластала крылья на кусте самшита. Почти квадратный лист книги становится похож на коробку с когда-то живым существом из энтомологической коллекции. Ах! Не только Владимир Владимирович Маяковский мог душу вынуть из себя и растоптать, «чтоб большая», поднимая её, окровавленную, как знамя! Не только Владимир Владимирович Набоков, коллекционируя бабочек, душу человеческую, свою, конечно, как бабочку на булавке всемирному читателю российской художественной словесности доверительно протянул в ладонях. И во внутреннем строе книги герой из летнего денька в тумане тополиного пуха вдруг заходится в немоте внезапного вопроса о том, что этот «летний снег» может растаять. Контрасты среды, субстанций, состояний шоковые! И вслед за ними так понятно, что на следующей странице нагая девочка с летающей над ней бабочкой вдруг оказывается бронзовой… Как не вспомнить здесь фетовскую «Диану»! Вопрос вопросов эстетики забытого девятнадцатого века! Искусство и действительность. Как проблемно, порой драматично их соотношение. В зареве разражающейся на следующей странице «Грозы» с эпиграфом из Аполлона Майкова является грознейший из античных богов, брат Дианы –Аполлон. Он является не стихотворным образом, но самим эпиграфом, где скромно спрятан инициалом «А». А в стихотворной строке, заканчивающей текст под эпиграфом, – неразъёмные объятия героя и безымянной героини. Объятия посреди земли, посреди грозы. Объятия вне времени и пространства, посреди самой Вселенной. И новый контраст следующего текста. Зеркальная книжка в книге захлопывается «В парикмахерской»… Языческое буйство метафор оживающего пейзажа в неразрешимости эстетического вопроса вопросов завершается в лаборатории первого из искусств, предлагаемых суровым обществом детству – в салоне тупейной художницы, где, оказывается, металлические ножницы способны летать, как стрижи.
И начинается новое сказание. В открывающем это сказанье стихотворении автор соединит длань незримую, роковую, из теософского поэтического трактата христианина Фёдора Ивановича Тютчева и Нарцисса из переложенных на классические стихи великим язычником Публием Овидием Назоном античных мифов («Фонтан отвергнут высотой…» – «СШ», cтр. 19). Мы не увидим здесь отражения Нарцисса, само усилие любви разглядеть это отражение станет сюжетом следующего ряда текстов из книги прогулок-блужданий по саду метаморфоз, а захлопнется эта книга в книге тоже отражением под бездной мирозданья, словно в центрифуге из призм вращающемся «Зеркале» («СМ», cтр. 54 – 55).
Полёт мотылька продолжит сюжет прогулок-блужданий («Заденет бабочка крылом…» – «СМ», стр.56), чтобы остановиться и встрепенуться в образе возлюбленной («Ты сбросишь платье, словно кокон…» – «СМ», стр. 80).
Мир языческих эфемерид исчезнет в реальной человеческой телесности, увы, такой бренной, как крылья бабочек в пламени свечи. Далее последует драматическая череда стихотворений между полюсами двух жестов – от назревающего и застывающего жеста наложения креста сомневающимся в неверии и вере памятником («Памятник у церкви Большого Вознесения» – «СМ» – стр. 85) до перебарывающего попытку суицида невыразимого жеста лирического героя («За окном – по лужам вижу…» – «СМ», стр. 115).
Смятённое и спутанное сознание, в котором рождается спасительная строка пометки на листе; взгляд на пройденные пути; визит на кладбище; грустная элегия о купленной новогодней ёлке, на которую не прийти с погоста покоящимся там друзьям; саркастические раздумья над посмертной славой и, наконец, перед самым финалом образ бабочки-капустницы, готовящейся к последнему полёту; а затем - желание жить. Всё, книга «Сад метаморфоз» завершена («СМ», стр. 116 – 122).
Каждая часть этой маленькой балетно-симфонической кинопрогулки по саду метаморфоз достойна отдельного анализа. Думается, со временем интерпретаторы из содружества искусств прочтут книгу Владимира Коробова по-настоящему: в музыке и танце, кинематографических снах и картинах, кто знает, может, и в пластике садово-парковых искусств.
Пути лирики: «Славянка тихая, сколь ток приятен твой»
Ученик Анатолия Жигулина и Владимира Соколова, Владимир Коробов по творческому кругу, осознанному выбору и поэтическим декларациям принадлежит к замыкающему поколению «тихих лириков»:
Вот опять она летает
Над беседкою в саду,
Домик сломанный латает,
Воду черпая в пруду.
И пока шумят народы,
Грозно спорят кто про что, -
С чувством счастья и свободы
Лепит ласточка гнездо.
(«Ласточка» – «СМ», стр. 75)
Но в отличие от остальных тихих лириков, чьи голоса принципиально одиноки во вселенной, герой Владимира Коробова ощущает маргинальность представителей своего поколения в целом, которые «кожей впитали эпохи пороки» и «вскочили случайно в трамвай перестройки» («Моё поколение» - «СМ», стр. 40). При этом противоборство конфликта с миром не характерно лирическому герою поэта, а его поэтическая тишина не от фронды затишья перед бурей и сосредоточения, собирающего внутренние силы молчания, а от школы, студии классической русской лирики девятнадцатого века, бережно воспринятой веком двадцатым традиции.
Прогулка по саду метаморфоз, блуждания мелькающей над тропинками бабочки лишь внешне – среди деревьев, но внутренне – среди образцов русской классики. Тень Василия Андреевича Жуковского сопровождает незримо читателя. Где-то рядом Константин Батюшков в своих печалях и скитаниях. Незримо – то пожалеет бабочку Константин Дмитриевич Бальмонт, то благосклонно взглянет обходящий свои владения Максимилиан Александрович Волошин, то пристально, почти оценивающе – Иван Алексеевич Бунин. Где-то повстречается герою лермонтовская ветка Палестины, а где-то ветка постучит в окно, ветка сирени Пастернака – всё это не читательские вольные ассоциации, а осознанный путь читаемого автора, осмысленно придерживающегося традиции, выверяющего не столько руку, сколько движения души и верность чувств, воспитывающего себя в исторически наследуемой культуре и традиции.
Составитель поэтических антологий, Владимир Коробов, не просто наследует традицию, а восполняет, перерабатывает творческим умом наследника. Поэт живёт в пространстве, которое культурно по самой своей природе – всеобщее пространство культуры нации. Бабочка в «Cаду метаморфоз» Владимира Коробова изначально наделена славянской, именно славянской душой. Таврида, где автор «Сада метаморфоз» живёт почти всё своё детство и всю юность, – это край, где, как волны о берег, разбились мечты Константина Батюшкова, где море шумит, что ещё Константин Паустовский заметил, гомеровым гекзаметром. В поэтическом мире Владимира Коробова антологическая лирика такой близкой для крымчанина античной традиции перешла в живую антологию русской классической лирики. И здесь можно говорить о феномене поэзии неоантологий. Новая антология, неоантология зримые материально конкретные статуи мраморов и гипсов в парках заменяет незримыми поэтическими образами русской классики, культуры как таковой. Не статуи, а стихи и образы классиков сопровождают лирического героя, дают отзвуки в переливах мелодий его поэтической лиры. Конечно, феномен этот воспитывает русская культура и русская поэтическая школа в целом, а институт и сообщество профессионалов стиха в конкретике и частностях непосредственного общения. Однако зарождается этот феномен для Владимира Коробова самой его судьбой. В раннем детстве переезжает будущий поэт именно в Крым из далёкого континентального Тобольска, а затем получает счастливую возможность приобщиться к взыскующему сосредоточенной кропотливости музейному труду, да не где-нибудь, а в Доме-музее А. П. Чехова.
Владимир Коробов не типичный тихий лирик из маргиналий, к которым даже рафинированный интеллектуал, санкт-петербургский певец ласточки-строительницы городов, Александр Кушнер, себя причислял. Владимир Коробов незаметно для поэтических аудиторий самой судьбой просто жить и просто чувствовать, просто быть в культуре дал своими стихами новую поросль тихой лирики. Эта поросль – самостоятельна. Она естественно выросла, раскинулась, протянулась перспективами новых аллей на окраинах старого парка поэзии. Эти аллеи и составили «Сад метаморфоз».
Неоклассика, лирика новых антологий, классических антологий и альманахов нашего тысячелетия – это, конечно, квазитерминология. Но важно то, что реально в своей историчности само явление новой волны тихой лирики. Этот феномен порождается не оттепелью, а гласностью. В следовании и осмыслении классики новейшая тихая лирика счастливо избежала искусов запредельной изощрённости александрийской поэзии, изысков и игр центонного стиха, не маргинализировалась, как предшествующие тихие лирики, а всем поколением успела вскочить в трамвай перестройки. Творчество поэта новейшей тихой лирики как последователя и восприемника классической традиции определяют четыре особенности. Во-первых, особый жанр книги как славянской прогулки, во-вторых, сплетение древнегреческого и древнеславянского античных мифов с христианской этикой жизни, в-третьих, замена античного мрамора и гипса оригинальным поэтическим шедевром русской поэтической классики, в-четвёртых, особый внутренний драматизм героя. Этот драматизм определяют экзистенциальные переживания своей судьбы и своего времени от расслабленных созерцательных медитаций до пароксизмов суицидального выбора. Содержание славянских прогулок в садах метаморфоз – философская судьба классического русского славянина. Появляется это содержание с обретением славянами собственно русского экстерриториального пространства, но осмысляется в конкретике каждой отдельной культурно-территориальной судьбы. Пример такой судьбы и даёт поэзия Владимира Коробова. «Славянка тихая, сколь ток приятен твой…» – как не вспомнить здесь и сейчас первую строчку знаменитой элегии Василия Андреевича Жуковского «Славянка»…
Лирический дуэт: «На последней минуте заката…»
Рядом с последней прижизненной книгой Владимира Коробова на полке стоит одностильное по своему оформлению издание книги Людмилы Абаевой (14.9.1951–02.11.2012), книги, увы, тоже последней. На титуле нет автографа. Книгу привезла в осенний Коктебель Светлана Василенко. Я вспомнил холодные, рассыпающиеся у берега осенние коктебельские волны тех, теперь уже давних, дней 2014 года. Вспомнил, когда сейчас снял с полки и эту книгу, а рядом с ней раскрыл и перелистал «Сад метаморфоз» Владимира Коробова. Со страницы глянулась, сама вошла в сердце, задела какую-то таинственную струнку души строфа «Романса»:
В зимних сумерках смутного дня,
На последней минуте заката,
Может, море узнает меня,
Предвечерней печалью объято,
И, прибрежный обдав тамариск,
Вдруг волною о берег ударит
И букет ослепительных брызг
На прощанье подарит.
(«Романс» – «СМ», стр. 58)
Нет, стихи не коктебельские, по духу, по реалиям здесь узнаётся южнобережное, скорее всего, именно ялтинское очарование Крыма, а не суровая красота юго-востока. Вспомнились вечер первой российской осени Крыма и грустная россыпь альбомных томиков в мягкой обложке. Молчанье гостей Светланы Василенко, которая привезла в Коктебель литературные премии, премиальные дипломы, остеклённые и взятые в рамки, книгу Людмилы Абаевой и печальное известие о сиротстве лежащей перед гостями горки-россыпи книг. Вера Фейгина, исполнительница многих романсов, взяла первый экземпляр. В чёрном вечернем платье, с чёрным камнем в перстне серебряной финифти Вера Фейгина могла бы сойти за пастора, если бы не оставила широкополую чёрную шляпу, в которой была днём. В тот бархатный коктебельский сезон волны были особенно высоки, бились о берег с особой силой. Идти в них было опасно. Но некоторые особо отважные романтики рисковали заплывать в самую даль и даже купаться у берега. В гостиничном номере было уютно. Коктебельский коньяк и любимое вождём всех народов «Кинзмараули», стихи и неторопливые тихие литературные разговоры сменили непроизвольную минуту молчания. Где-то вскипало и билось о берег море, рокотало и бугрилось бегущими от горизонта волнами, а в душах рождалась тихая волна лирики, и рождалась она в Крыму. Крымская волна тихой лирики.
Не раз возвращаюсь я памятью в тот коктебельский вечер осени 2014 года, в ту минуту молчания. Ни разу не встречались авторы этих двух книг на моём пути, но вот так и видится читательскому взгляду на умозрительном экране кинематографической интерпретации: тени двух поэтов встречаются на берегу, возникая одна из волн, а другая – из сплетения крон на тропе. Бредут эти тени вдоль берега и превращаются в разлетающихся бабочек и птиц, растворяются в ночной музыке рокочущего моря и фиолетовой синеве меркнущего неба «в … сумерках смутного дня, на последней минуте заката».
На последней минуте заката, на последних шагах лирической совместной прогулки издали свои книги два поэта. Владимир Коробов и Людмила Абаева были супругами. Вместе учились в семинаре Анатолия Жигулина, публиковались в одних журналах, подготовили одну антологию «Прекрасны вы, брега Тавриды: Крым в русской поэзии» (М., 2000), были лауреатами одной Международной Артийской премии. Думается, исследователи их творчества смогут найти в стихах двух поэтов диалог, просто сплетение голосов и тем. С предельной ясностью и чистотой голоса поэтов прозвучали, увы, на последней минуте заката их творчества, стали последними прижизненными книгами.
Христианские мотивы лирики Людмилы Абаевой многим сильнее языческих. Философско-эстетические темы и проблемы, психологический драматизм отступают у поэтессы перед общей для обоих поэтов ностальгией по детству, любованием природой. У Людмилы Абаевой усиливается романтически-трансцендентная тональность, проявляющаяся в сплетении мотивов сна и птицы, в образах таинственного ночного гостя и горящей волчьими глазами тайги, даже в решении традиционно женской темы одиночества. Гамлетовский вопрос вопросов, обретающий у Владимира Коробова суицидальный драматизм, сменяется сестринскими объятиями с Офелией.
Лирическая героиня Людмилы Абаевой мыслит себя, свою жизнь только вдвоём с лирическим героем, даже мир у неё и само время в этом мире – всё на двоих:
О, Господи, осень!
Погожий денёк для двоих,
Бредущих одной бесконечной конечной дорогой…
(«О, Господи, осень!» - «СИП», стр. 39)
Даже тот, который сердце ранил
Безутешное,
С радостью проснётся утром ранним
Безмятежною…
(«Что ты плачешь, косы расплетая» – «СИП», стр. 45)
Спутник по прогулкам в саду метаморфоз, тот, с кем делила свои сны и своих птиц, умолк. Смолкла песня и поэтессы. Жизненный путь двух поэтов завершён, но путь их творчества, путь двух душ, воспаряющих над берегами Тавриды, открыт для всех читателей оставленных ими стихов. Сколько бы ни было волн русской лирики, была среди них и эта тихая крымская волна, романтическая волна поэтического дуэта Владимира Коробова и Людмилы Абаевой.
